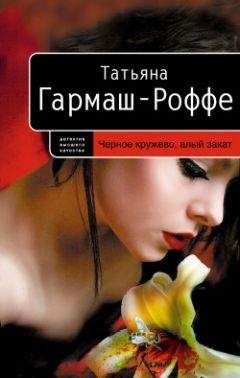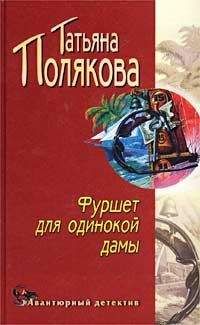Татьяна Корсакова - Беги, ведьма
Парк, черная громадина, тонет в темноте. Луна выглядывает из-за тучи и тут же испуганно прячется. Это хорошо, Лизе не нужны свидетели, а парк она знает как саму себя. Под ноги с тихим поскуливанием бросается тень. Софи, еще папенькой подаренная борзая, нервно переступает длинными лапами, тычется острой мордой в раскрытую ладонь. Еще один верный друг, тот, что не бросит, не предаст.
– Пойдем, Софи, нам нужно спешить!
Теперь опираться можно то на клюку, то на собаку, отогревать в густой шерсти озябшие пальцы. У нее все получится, не может быть иначе.
…Вода пруда черна, без отсветов, без лунной дорожки. Словно и не вода вовсе, а гранит или черный лед. Старая липа клонится к пруду, тянется корявыми ветвями, силится зачерпнуть воды. Лиза липу не видит, просто помнит ее повадки. Глубокое дупло у самого основания, не дупло, а считай, нора. Вход в него надежно укрыт высокой травой и старыми листьями. Если не знать, что искать, ни за что не найдешь. Лиза облюбовала этот тайник еще в детстве, но рассказала о нем лишь мсье Жаку. А вот любимому Петруше не рассказала, побоялась, что тот сочтет это глупостью. Выходит, хорошо, что не рассказала.
За спиной предупреждающе тявкнула Софи, но не тревожно, а по-свойски. Луна снова выглянула из-за тучи, и вода в пруду из черной сделалась серой, как расплавленный свинец.
– Вот ты, значит, где. – Петруша выступил из темноты, большой, широкоплечий, опасный. – А я зашел тебя навестить, гляжу, нету во флигеле никого. Ни тебя, ни выродка твоего, ни старухи этой ненормальной.
Петруша говорил ласково, словно в любви признавался, а сам медленно приближался, заставляя Лизу отступать к воде. Софи, заподозрив наконец неладное, металась между ними, припадала к земле, неуверенно скалилась. Петруша не был хозяином, но он из своих, из тех, на кого нападать и лаять никак нельзя.
– А мы с Лили уезжаем на заре. – В лунном свете улыбка Петруши напоминала оскал. Волк, о котором говорила баба Груня, рвался на волю, кромсал острыми клыками остатки человечности. – Жаль, конечно. Столько сил, столько средств было вложено в дом. И парк этот мне люб. Но что поделать, ждать больше никак нельзя. Чернь, шушера ничтожная вдруг решила, что ей дозволено стать хозяйкой жизни, что можно крушить, воровать и убивать.
Он говорил страстно, словно и сам верил сказанному. Или хотел, чтобы Лиза поверила.
– Представляешь, давеча графа Потоцкого, заступника твоего и моего доброго друга, убили. Пуля в затылок. Ай-яй-яй… Какая подлость! Никакого понятия о чести нет у этих пролетариев.
– Это ведь ты его убил. – Налетевший вдруг ветер подхватил слова, унес далеко, но Петруша все равно ее услышал.
– Он смел мне угрожать, собирался забрать тебя и твоего выродка к себе. Глупец, думал, я не посмею ответить ударом на удар. Умер, не успев понять, какое удивительное наступило время. Все вопросы можно решить, все проблемы. И никто ничего не узнает, еще и жалеть меня станут. Поверь, я знаю, как добиться людского расположения. Ах, бедняжка этот граф Дубривный, революционеры забрали у него самое дорогое, убили любимую супругу и новорожденную дочь! В парижских салонах любят такие истории. А если рассказчик окажется еще и талантлив, успех гарантирован.
Петруша рассуждал о предстоящем убийстве как о театральной постановке, с чувством, с удовольствием. Он собирался убить Лизину дочку!
– Софи, взять!
Она кричала, и вероломному ветру не удалось заглушить ее голос. Но Софи, избалованная лаской и праздностью, растерялась, застыла перед Петрушей в нерешительности, а когда наконец сорвалась с места, он уже был готов.
Жалобный собачий визг оборвался тихим хрустом, и мертвое тело упало к Петрушиным ногам.
– Ты глупая. – Он переступил через затихшее тело. – Красивая, но глупая. Я даже ненавидеть тебя не могу, только презирать. Где она?
– Кто? – Шаг назад. Сколько их еще осталось, этих шагов?
– Твоя дочка. Не усложняй мне жизнь, а себе смерть.
– Она и твоя дочь тоже.
Пустое, человека, у которого нет души, таким не пронять.
– Я могу убить тебя быстро, как твою псину, а могу помучить. Хочешь мучений, Лизавета? Тебе их мало?
Лишь одна только мысль о том, что ее девочка в опасности, мучительна. Все остальное она переживет. Или скорее не переживет…
– Я ее все равно найду. Наверняка она сейчас со Стешкой или со старухой, а ты свой выбор сделала.
Прежде чем он бросился, Лиза успела замахнуться клюкой. Петруша легко ушел от удара, обеими руками сжал Лизину шею, вгляделся в лицо. Лиза тоже вглядывалась, чтобы запомнить, чтобы отомстить, пусть даже и с того света. В его глазах отражалась полная луна, и от этого они казались затянутыми бельмами.
…Вода приняла ее в свои холодные объятия. Вода была мягче и милосерднее жестоких Петрушиных рук. «Не сопротивляйся, – шептала она, – не надо бороться с неизбежным». И Лиза не стала бороться, раскинула руки, запрокинула лицо к черному небу, опустилась на дно, как в далеком детстве.
Со дна все казалось иным, сказочным. Полная луна превратилась в серебряную монетку с чеканным профилем. А стоящая на берегу фигура потускнела, утратила четкость и значимость. Он уйдет, когда убедится, что она умерла, утонула. Нужно потерпеть. Она умеет задерживать дыхание. Мсье Жак не зря старался, Лиза примерная ученица. Особенно когда цена урока – жизнь. Луна-монетка качнулась, как маятник, и фигура на берегу качнулась тоже, подалась вперед, наклонилась, высматривая на дне пруда мертвую Лизу. Она еще жива, но скоро… если он не уйдет, если задержится хотя бы на мгновение…
Луна-монетка кивнула, соглашаясь. Да, ты умрешь, все умирают, и ты не исключение. И дочка твоя, девочка, которой ты даже не дала имя, тоже умрет. Поэтому не противься, вдохни воду, позволь водорослям оплести тебя зеленым саваном, позволь убийце уйти. Он тоже умрет, обещаю…
– …А хочешь, я тебе помогу? – Тень лежала рядом, закинув руки за голову. – Ты же знаешь, я могу. Никто не уйдет ни от благодарности, ни от наказания.
– Моя девочка…
– Я присмотрю за ней. Я стану ей матерью.
– Поклянись.
– Клятвы – ничто, но я обещаю. Дай руку.
Ладонь тени прохладная, как лунный свет, от прикосновений призрачных пальцев пожар в груди гаснет, а желание вдохнуть уже не такое невыносимое.