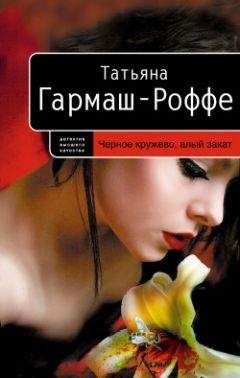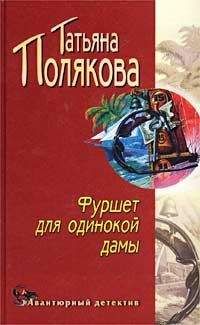Татьяна Корсакова - Беги, ведьма
– Не ходите за мной. Пожалуйста…
Ощущая босыми ногами гладкость лакированного пола, Арина медленно двинулась к выходу. Молния, словно привязанный за веревочку воздушный шарик, полетела следом. Рядом черной тенью заскользил верный Блэк. Гладкость полированной доски сменилась сначала прохладой мокрой плитки крыльца, а потом холодом пропитанной дождем земли. Арина сосредоточилась на этих простых ощущениях. Они не успокаивали, но отвлекали, чуть-чуть гасили пылающую в груди ярость.
Ворота распахнулись, стоило только Арине ткнуть в них веретеном. Поднявшийся ветер швырял в лицо горсти дождя, пригибал к земле заросли чертополоха, обрывал листья со старой липы. Арина шла, не разбирая дороги, точно ветви деревьев раздвигая руками дождевые струи. Прочь! Как можно дальше от одинокого дома, от Анук и Ирки, от собственного отчаяния.
Свежевспаханное поле пряталось в серой пелене, стелилось под ноги черной, липкой землей, заманивало. Молний стало много. Теперь вокруг Арины кружился их красочный хоровод, все быстрее и быстрее, сливаясь в ослепительную ленту, отсекая девушку от остального мира, запирая в светящийся кокон, успокаивая. Она запрокинула лицо к черному грозовому небу и закричала. Она грозила неведомому врагу веретеном и молила неведомого друга о помощи. Она ведьма! Пора принять наконец этот дар, воспользоваться клокочущей в ней силой. Пора сделать хоть что-нибудь, чтобы доказать самой себе, что она жива и готова бороться за себя, за человека, без которого все теряет смысл.
– Я не сдамся!!!
От звука ее голоса светящийся кокон пошел трещинами, а веретено завибрировало. Сила искала выход.
Арина ткнула кокон веретеном, и мир вокруг сначала превратился в белое пламя, а потом сжался до острия иглы и заплакал тихим детским плачем…
* * *Детский плач, тихий, как кошачье мяуканье, не дает покоя, заставляет вспоминать о чем-то важном, о том, что никак нельзя забывать. В ушах шумит море, заглушает плач, отнимает силы. Волны покачивают беспомощное тело, словно в лодочке – или колыбели? – вылизывают кожу шершавыми языками, разговаривают разными голосами: сиплым старым и звонким молодым. И Лиза из последних сил старается выплыть, в беспокойном море ухватиться за что-нибудь надежное, незыблемое.
– Стешка, где тебя носит?! Дите от голода криком кричит, надрывается, – говорит волна старым голосом и сильнее качает лодочку-колыбель.
– Отослала ведьма старая еще поутру, даже рта открыть не дала. – Молодая волна говорит зло, торопливо. – А то не понимает, что мне из дому надолго никак нельзя отлучаться!
– Все она понимает, гадина. Оттого и отослала. На-ка, забери с рук да покорми уже. Может, замолкнет да поспит. С ночи ж орет, не унимается. А я ж не молодка уже, Стешка, мне бы хоть с хозяйкой, Лизаветой Васильевной, управиться.
– Так что ж мне, молока, что ли, жалко! Грудь вон расперло, болит – спасу нет. Федюшка мой один не справляется, хоть тоже, считай, полдня голодный, без мамкиной сиськи.
Молодой голос говорит-говорит, а детский плач становится все тише, пока и вовсе не затихает. А лодочка качаться почти перестает, дарит успокоение. Надолго ли?..
– А как тут наша голубушка? – Молодой голос теперь разговаривает тихо, напевно, точно баюкая.
– Да как ей быть? – шепчет старый голос и качает лодочку. – Который уже день в лихоманке, а дохтура нет. Заболел дохтур! Кто это ему дозволил болеть в такое страшное время?
– Да что же ты, баба Груня, на Бориса Глебыча наговариваешь?! Он же, бедняжка, почитай, при смерти. Как эти ироды больницу разгромили, так с ударом и слег. Ему самому теперь дохтур нужен.
– Я Кондратиху сегодня позвала. – Старый голос падает до едва различимого шепота. – На заре приходила, чтобы Клавка, гадюка, не прознала. А что, коли дохтур при смерти, так и нашей голубушке помирать?! – Голос умолкает, а потом резко возвышается почти до крика. – И без того намучилась. Мало что сама слабенькая, так еще и дитя до сроку родила. А Клавка, змеюка подколодная, повитуху запретила звать. Вот, Стешка, чует мое сердце, это она Лизавету Васильевну и младенчика хотела извести.
…Младенчик. Младенчики плачут тоненькими голосами, и от плача этого что-то сжимается внутри, кровоточит. Младенчики не должны плакать. Неправильно это.
– И что Кондратиха? – В молодом Стешкином голосе слышатся слезы.
– Ничего. Поглядела, обнюхала, живот помяла, а потом головой покачала, мол, опоздали, не нужна тут моя помощь. А я сразу Елизаветы Васильевны матушку вспомнила, земля ей пухом. Доктора тогда вот точно так же головами качали, знали, что не жилица…
– Да что ты несешь?! – Стешкин голос теперь злится. – Типун тебе на язык, дура старая! Лизавета Васильевна сильная, что ей какая-то лихоманка?! Или забыла, как она в детстве всю зиму, считай, в лихоманке пролежала? Тогда тоже никто не верил, не чаял, что оправится. А она оправилась. И погляди, какой красавицей выросла!
– Красавицей… – Волна касается лба холодным языком, и Лизе делается хорошо. – Ты поглянь, поглянь, Стешка, что от нашей красавицы осталось. Горит вся, тлеет изнутри. Я полотенце мокрое менять не успеваю. Только положу ей на лоб, глядь, а оно уже горячее. И в грудях у нее все клокочет…
Отступивший было шторм снова возвращается, утаскивает в горячую пучину с головой, льет в горло раскаленное олово, сдавливает грудь, выжимая остатки воздуха и жизни…
Вынырнуть, спастись получается не сразу. Жизнь возвращается вместе с мучительным кашлем и болью. Жизнь разговаривает с Лизой тихими, некогда знакомыми, а нынче почти забытыми голосами.
– …Снова плачет. Стешка, да покачай ты ее, песенку какую спой. Хорошо, что ты пришла, а то умаялась я тут с ними одна. Дом пустой, холодный. Разбежались все, как крысы. Революция… – Старый Грунин голос шипит по-змеиному, но не зло, а испуганно, заглушает слабый детский плач. – Я грешным делом подумала, что и ты ушла.
– Куда я уйду? Как хозяйку брошу? Тише, маленькая, тише. Баю-баюшки-баю…
– В город. Вон Потап Стрельцов с семьей в город подался. И Филимоновы собираются. Неспокойно нынче тут, в поместье. Власть теперь другая, рабоче-крестьянская. Так Потап сказал прямо барину в лицо, не убоялся. А барин смолчал, и Клавка евонная тоже смолчала, только зыркнула так, что Потап потом до самой ночи икал.
– В городе тоже неспокойно. Мелькомбинат разгромили, управляющего прямо на воротах повесили. А за что? Хороший ведь был человек. И никакой не барин. На площади костры жгут, пьяные мужики с винтовками песни орут, за светлое будущее пьют. А откуда ему взяться, светлому будущему, когда в настоящем кровушка рекой? Не в город нужно бечь, баба Груня, а из городу, к польской границе. Так мой Ванюшка говорит. Говорит: «Собирай, Стеша, Федюшку и сама собирайся, кончилась спокойная жизнь».