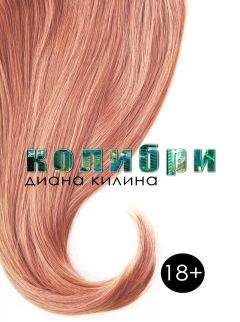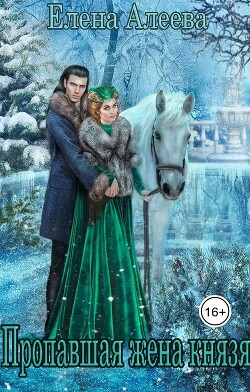Ненаписанное письмо (СИ) - Толич Игорь
Исходя из того, о чем она сбивчиво тараторила, перескакивая с английских слов на свой родной язык и просто охая кстати и некстати, я догадался, что вряд ли она бывала в подобных местах. Она была приличной женщиной с насиженным прошлым. Мне следовало бы проявить больше человеческих качеств, когда она заявила, что я похож на ее сына. Но почему-то именно это замечание разозлило меня.
Я закрыл дверь. Свет зажигать не стал. Вынул из кармана уже немного помятые квадратики из фольги, которые остались после отъезда Саши.
Мария посмотрела на меня испуганно. Может, так было положено в ее молодости — сначала сделать убедительный вид, что не понимаешь происходящего, — часть сексуальной игры, которая скорее выглядела нелепо при нынешних обстоятельствах. Но затем она стала подминать руками подол сарафана, чтобы не споткнуться, а после опустилась передо мной на колени, уже зная, что полагается делать в этой позе.
Я выкинул все лишние ассоциации из головы. Старался не представлять ни одного из знакомых мне женских лиц, старался не видеть мученические глаза Пенни, старался просто расслабиться. Старался не думать, что я с чужой женой, которую, быть может, кто-то ищет, которая не нравится мне ни как женщина, ни как человек. Для меня это вдруг стало неким триумфом самоуничтожения. Бесстрашием, проистекшим от безрассудства. Бесстрашием с однокоренным безразличием. Наверное, только тогда я понял и усвоил всю ядовитую суть цинизма. Циник — не тот, кто никогда не любил. Циник — это тот, кто прекратил во что-либо верить. В первую очередь в себя.
Все происходящее виделось мне дикой фальшью моего прошитого сквозными ранениями ума. Эта комната, этот блеклый дождь за окном, эта полуголая, когда-то красивая женщина, стоящая на четвереньках, — все это куски диафильма, который я сам придумал ради забавы. Однако сам же не находил здесь ничего забавного.
После я сидел на краю кровати, уперев кулаком в подбородок, и решал, хватит ли у меня бензина отвезти Марию к ее отелю и вернуться затем домой, потому как запасной бутылки с топливом у меня не было.
— Джет… — Мария обняла меня за плечи, и мне захотелось стряхнуть ее, но я сидел неподвижно.
— Что?
— Мне понравилось.
«Господи боже, — подумал я, закрывая глаза, — зачем она это говорит?!»
— Я рад, — сказал я вслух и встал.
— О ком ты думаешь?
«Быть может, она хотела спросить — о чем?..»
— О своей собаке.
— У тебя есть собака? — как будто бы даже обрадовалась Мария. — У меня есть собака. Кэтти.
— Почему твою собаку зовут как кошку?
Мария засмеялась, подобрала ноги и спрятала грудь в переплетенные пухлые руки.
— Нет, — настаивала она, — не кошка. Кэтти — это собака. Как зовут твою собаку?
— Чак, — я уже отошел в другой край комнаты и одевался.
Мария воровато следила за мной, убирала глаза, стесняясь, и снова подсматривала.
Надеюсь, она в тот момент не думала о сыне.
Я подал ей упавшее на пол платье. Она кивнула. И вдруг она резво подобралась ближе и снова стала тянуть руки к моим шортам. Я не стал останавливать.
Ненадолго и лишь в качестве исключения я тогда согласился с Крисом, что у некоторых женщин во рту действительно что-то вроде эрогенной зоны. По крайней мере, то удовольствие, которое получала Мария, было несравнимо с моим. Я ей даже позавидовал. Она занималась сексом с рвением и самоотдачей, а я успел подсчитать в уме, сколько будет стоит такси для Марии, так как везти ее своими силами я уже точно не собирался.
Утром следующего дня я отправился с Сэмом и Пенни на сбор урожая батата к приятельнице Сэма, Инди.
Я заранее обещал Сэму помочь в этом деле, потому что фактически он и Пенни заменили мне здесь семью, и я не мог оставить старика один на один с сельскохозяйственным коллапсом. Урожай в этом месяце удался, Инди не справилась бы с ним одна. Она была на восьмом месяце.
Маленькая, хрупкая, почти такая как Пенни, с оранжевым платком на голове и горькими персидскими глазами, она вышла нас встречать на кривых, нетвердых ногах. Ее живот выглядел ненастоящим, будто приставным. Я видел Инди пару месяцев назад. Мне и тогда показалась ее беременность какой-то кукольной.
Кто был отцом ребенка, никто не знал и не спрашивал. В деревне, где она жила, такие вопросы не поднимались в силу сложившегося менталитета. Деревня была крошечной — всего пять домишек. Ее сельчане жили натуральным хозяйством и регги, а Инди, как и некоторые другие жители, давным-давно бежала из своей страны навстречу воле и неизвестности. Она была иранкой, но это тоже не имело здесь значения, особенно, если у тебя лучший батат на продажу.
Когда мы подкатили на ржавом пикапе, Инди уже допевала песню, которую затянула, только увидев нас. Я и Пенни сидели в кузове. В дороге мы не разговаривали, но переглядывались. Пенни была непривычно серьезна, а я чувствовал себя подавленно. Я ловил ноздрями ветер, который теребил на мне рубаху, и молчал.
Чтобы ты понимала, Марта, мои настоящие чувства, я опишу их так: я чувствовал себя вшивым котенком, который никак не может почесаться. Мои гадкие блохи скакали прямо у меня на лице, что Пенни их прекрасно видела, но ничего поделать с ними я не мог. После секса с Марией блох стало вдвое больше. Я понимал, что они — всего лишь моя истерическая галлюцинация, но полностью избавиться от колющих, щиплющих ощущений на коже это знание не помогало.
Инди словно тоже разглядела этих мелких навязчивых тварей, но, повинуясь деревенской традиции не влезать в чужие личные дебри, она только участливо кивнула. Я выпрыгнул из машины, вытащил за собой Пенни. Инди и Сэм обнялись.
Сэм был вдвое старше и на голову ниже, но Инди обнимала его без сочувствия и формальности. Она обнимала с любовью. Объяви они сейчас себя парой, я бы не удивился, даже с учетом полной нескладности их персон. Только живя на острове, я действительно стал понимать, почему у любви нет пола, возраста и расы. У нее может не быть и общего ДНК (я почему-то был уверен, что ребенок Инди не от Сэма), но и от этого любовь не становилась менее настоящей.
Он — старый, чернокожий подкидыш из Африки, она — арабская беглянка с кожей капучино, молодой и бархатной. Общим у них было только растафарианство и объятья, которые они дарили друг другу при каждой встрече. И вряд ли — большее, потому что Сэм оставался верен своему кафе и своей погибшей семье, а Инди оставалась верна батату.
Между прочим, лучшему батату, что я пробовал. Если в кафе Сэма готовили батат, то только батат Инди. Так что Сэм ни за что не позволил бы пропасть чудесному овощу.
Я боялся, что мы застрянем тут на весь день. Но по приезду выяснилось, что урожай почти собран. В этом помогли односельчане Инди, а наша помощь пригодилась только в завершающей стадии уборки. Оставалось сложить еще несколько ящиков, остальные были готовы. Пенни сразу ушла в поле, а я и Сэм грузили ящики в пикап: я таскал и поднимал на нужный уровень, Сэм расставлял их по кузову.
Он подхватил из моих рук последний ящик, примостил его на уже стоящий, отряхнул ладони и посмотрел на меня в упор без улыбки:
— Пенни сказала, ты уезжаешь?
— Уезжаю? Я?
— Пенни сказала, — повторил Сэм.
Он, кряхтя, оперся на мое плечо, перемахнул одной ногой через борт, оттолкнулся от колеса и спрыгнул наземь.
— Уезжаешь или не уезжаешь? — настойчиво допытывался Сэм.
— Не уезжаю, — сказал я. — И не знаю, зачем Пенни придумала это.
— И я не знаю, — простодушно ответил Сэм.
Мы закурили той травы, которую подарила нам Инди. Точнее, подарила она, конечно, Сэму. Меня она едва замечала и, похоже, видела кем-то вроде прислуги Сэма, на которого можно обращать внимание, а можно не обращать — без разницы. Инди и Пенни хозяйничали на открытой кухне — мы с Сэмом видели их через поле и ждали, когда позовут. В конце концов, нас погнал дождь, и мы спрятались в сарае за домом, чтобы самокрутка не погасла, да и самим чтоб не отсыреть.
Ганжа оказалась прекрасной — мягкой и дремотной, говорить от нее совсем не хотелось, а хотелось смотреть на серые полосы дождя. Смотреть и не спрашивать, отчего и почему все так в мире. Сейчас он казался ровным и лаконичным как спил от бензопилы на стволе дерева. На какое-то время я забылся в упругом тумане. Желания, тревоги совести, любовная мука отпустили меня.