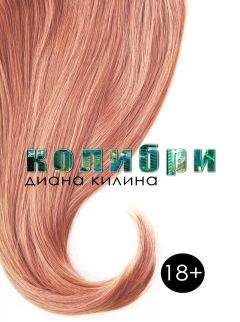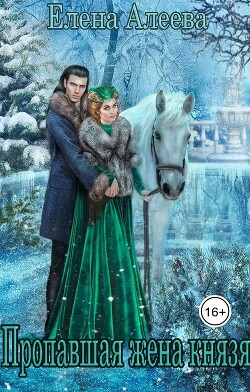Ненаписанное письмо (СИ) - Толич Игорь
После продолжительного и морально тяжелого молчания ты сказала:
— Ты просто не знаешь, что такое унижение. Так вот, не дай и мне никогда узнать с тобой, что это такое.
Я должен покаяться перед тобой, моя дорогая Марта, что не выполнил в точности твое наставление. Может, забыл, а может, просто не хотел помнить твои требования. Я не считал их серьезными условиями нашего союза. И потому в тот злополучный вечер, когда ты собрала мои вещи, я не ушел, а остался стоять как истукан и обтекать подробностями случившегося кошмара. Наверное, тогда для меня в мире еще существовали ужасы пострашнее боли надломленного доверия, но утром я все-таки ушел. Но уже по другой причине. А потом еще не раз звонил тебе и молчал в трубку.
Это был я, Марта. Я. Тот, кто не умеет любить свое прошлое, не умеет хранить тепло забытых объятий, но я, который не сумел уничтожить из себя мысли о тебе в одночасье. Я и тогда понимал, и теперь прекрасно вижу, что ты была далека от книжно-лирических описаний настоящей женщины, но это не помешало мне желать тебя и месяцы спустя, когда я перестал доставать тебя бесплодными звонками.
Кто я после этого? Слабак, трус или эгоистичное чудовище, которых ты порицала всеми силами?
Впрочем, я был знаком с историей расставания с твоим бывшим. Он выжал тебя насухо, а ты ругала себя за безволие. Да и его тоже ругала, но себя — больше, потому что любое недовольство всегда происходит от недовольства внутреннего. Когда мы ругаем кого-то, зачастую мы ругаем себя — за слабости или доверчивость, за большие и маленькие промахи. Вина других отражается в нас, а мы с удовольствием перенимаем ее как самый ценный подарок.
Но мне не хотелось винить себя за судьбу Пенни. За чудовищную боль, которую она испытывает, отстраняясь от меня. Потому, когда она немного оклемалась, я сопроводил ее к выходу. Я знал, что прошу ее не просто уйти за дверь, я прошу ее не возвращаться. И, нет, Марта, я не надеялся на то, что она полетит ко мне в те одинокие моменты, когда мне будет необходим хоть кто-то. А они обязательно наступят, эти моменты, как у любого живого человека. Наступят, и я буду вспоминать ее, тебя, даже Сашу, буду ломать ребра криком о помощи, но не стану ее звать. А она сама придет, позову или нет, как приходила всегда. И я не в праве буду лишить ее и себя этой радости.
10 октября
И все-таки я не провожал Пенни с легким сердцем. Напротив, сердце мое было тяжело и печально, несмотря на то, что пытался я его вразумить. Разум не помогал.
Пенни закрыла дверь за собой, а я остался один. Чак подошел и посмотрел на меня снизу-вверх. Он как бы спрашивал: «Ну, ты чего, приятель? Какие наши беды?»
— Чак, — сказал я, обращаясь к псу, — ты бы предпочел отрезать себе яйца, чтобы не страдать по женщинам? Или предпочел страдать всю оставшуюся жизнь, потому что всегда и со всеми будет происходить какая-то херня?
— Аф! — сказал Чакки.
— Ну, вот и я тоже, — согласился я.
Вечером я сидел в полудреме за ноутбуком и клевал носом. Мне нужно было доделать кое-что по работе. Чак в это время носился по комнате и сбивал меня с мысли.
Казалось, он специально выбрал самую шумную игрушку, чтобы я наконец обратил на него внимание. Я купил ему недавно в зоомагазине желтую резиновую курицу с пищалкой под хвостом. Курица Чаку понравилась, и теперь он терзал ее зубами, перетаскивал с места на место, рычал, замирая над смолкнувшей добычей, а затем снова принимался душить ее и мять лапами, отчего при каждом движении курица верещала на полную громкость, будто и правда билась за жизнь.
Не выдержав, я отнял у Чакки игрушку. Он начал прыгать за руками, лязгать пустыми челюстями и все вокруг орошать слюной и лаем. Я попробовал его приструнить. Не получилось. Потом решил поиграть с ним и хорошенько вымотать. Но сил и задора у Чака было куда больше, чем у меня. Я сдался первым, а пес продолжил наматывать круги и радостно бесновать. В конце концов, я вернул ему желтое чудище, перед этим проковырявшись у нее в заде и ликвидировав пищалку. Чак недолго погрыз курицу и бросил, потеряв к ней всякий интерес, потому что молчаливая игрушка, по всей видимости, оказалась ничем не лучше скучной любовницы, с которой не знаешь, что делать в постели, и вообще иногда сомневаешься, жива она еще или же просто уснула.
Кстати, на эту тему мы как-то спорили с тобой, Марта. Ты говорила, что поведение женщины во время секса полностью зависит от мужчины. Если кавалер безобразно туп и предсказуем как таблица умножения, у женщины пропадает любое желание шевелиться, и она просто отбывает под ним повинность «членоприемника» (еще одно твое замечательное словечко).
Но я был в корне не согласен с тобой.
— Послушай, не горячись, — говорил я, усмиряя твой пыл, всегда нарастающий в спорах, ласковым поглаживанием по спине.
Ты лежала на диване в дряблой майке на четыре размера больше, которую неизвестно зачем было надевать, если она ничего не скрывает, и набивала рот черешней. Твои губы окрасились бордовым, а сок струился по подбородку. Черешню ты запивала пивом и плевать хотела на то, что они не сочетаются. Ты просто хотела пива и черешни одновременно.
— Мне попадались разные женщины, Марта. И некоторые из них в постели были… Как бы это сказать… Довольно скучны.
— В чем это выражалось?
— Ну, в чем, в чем?.. В отсутствии страсти. В скупом выражении эмоций.
— Значит, ты их эмоционально подавлял.
— Я? — искренне удивился я. — Марта, ты можешь себе представить, чтобы я кого-то эмоционально подавил?
Ты посмотрела на меня лукаво и оценивающе.
— Нет.
— Даже не знаю, комплимент ли это…
Ты засмеялась и потрепала меня по голове, как теперь я иногда треплю Чака.
— Просто ты был неопытен и скован. Ничего страшного.
— Ну, знаешь ли… — я делал вид, что не обижаюсь, но тебя в таких вопросах было не провести.
— Джей, — ты свесила голову вниз с дивана и смотрела на перевернутого меня, — это наверняка было по юности. Может, еще в школе. Да?
— Нет.
— Нет?
— Нет.
Ты снова перевернулась и глядела уже настороженно.
— Ну-ка, расскажи.
— Не буду.
— Расскажи.
— Не буду.
— Почему не будешь?
— Потому что ты разозлишься.
— Разумеется, я разозлюсь! — в нетерпении ты стала теребить свою ужасную майку. — Но мне интересно!
— Я не сомневаюсь. Но я хочу сказать о другом. Что не всегда поведение партнера зависит от второго участника действа. Есть люди, скованные сами по себе. Это, можно сказать, их стиль. Они ни с кем не станут вести себя развязно и выдавать феерию.
— Неправда. Просто нужен подходящий партнер. Вот и все.
— Ладно. Пусть так, — временно согласился я. — Но, знаешь, иногда это даже возбуждает.
— Что?
— Скованность. Отсутствие громких звуков и резких телодвижений. Что-то в этом есть. Конечно, не на постоянной основе.
Ты обдумала мои слова, доела черешню, запила пивом. Затем молча встала и понесла пустую тарелку в кухню. Послышался звук включенной воды. Ты мыла посуду.
Я подошел и встал сзади. Убрал твои рассыпавшиеся по всей спине волосы на одно плечо, которое было условно одетым в клочок ткани. Второе же плечо было полностью голым и доступным для поцелуев. И я целовал тебя, прижавшись как можно плотнее.
— Мне молчать? — спросила ты.
— Молчи.
— И не двигаться?
— Не двигайся.
Твой затылок опрокинулся ко мне на грудь, когда я вошел в тебя сзади, но ты сдержалась и не издала ни звука. В кухне стояла полная тишина, не считая моего и твоего дыхания и мягкого соприкосновения друг с другом двух тел в одном темпе. Ничто не отвлекало от ощущений сладостного слияния. Мы чувствовали целиком, как горячеют живые ткани, наливаясь кровью, и как совершенно дополняют одно другое части нашей плоти…
— Аф! — резанул Чаки мне прямо в ухо, и я едва не свалился на пол, потому что этот гаденыш, похоже, решил довести меня до инсульта любым способом.