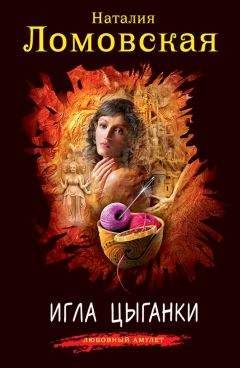Наталия Ломовская - Лебяжье ущелье
Катя собралась в далекое путешествие. Фиолетовое хранилище ключей и древностей с рукавами осталось висеть в прихожей. Она поедет на такси, это большой расход, но ей не по силам тащить в метро картины! Значит, курточку можно оставить распахнутой. Как могла, Катерина привела себя в порядок и все же, когда машина подъехала к «Серебряному павлину», оробела. Таинственность затененных дверей, важный павлин над входом, торжественная тишина холла, запах дорогих духов и табачного дыма…
– Катюша, вы ли это!
Это было странно, почти невероятно, но Эмилия Габриэловна искренне обрадовалась Кате. Она выругала ее за то, что та сама принесла картины: «… можно было бы, кажется, сообщить, я бы прислала и людей, и машину!» – похвалила за плодотворную работу: «…вы, деточка, не лентяйка, не то что наши новые, которые день за мольбертом, неделю по тусовкам!» – подтвердила Катины догадки: «…у вас непременно будет девочка, вот уж поверьте матери двух дочерей!» И, главное, она не задала ни одного ненужного вопроса, не позволила себе ни одного щекотливого намека! Записала Катин новый телефон, чмокнула в щечку и горячо настаивала на том, чтобы отвезти Катерину на своей машине, но получила вежливый отказ. Кате не хотелось, чтобы нарядная хозяйка «Серебряного павлина» знала, где она сейчас живет. Дорого стала ей эта гордость!
Выйдя из галереи, обрадованная и разгоряченная теплым приемом, Катерина решила ехать на метро. Теперь она налегке, незачем тратиться на такси! Но уже в поезде ей стало не по себе. Парнишка с зачехленными лыжами уступил ей место и она сидела, закрыв глаза, чувствуя на себе испуганные взгляды попутчиков, очень бледная, с прилипшими ко лбу волосами. А потом еще невыносимо долго тряслась в холодном, обледеневшем автобусе, и нельзя было даже застегнуть шубку, и в горле стоял какой-то ком. Катя думала, что это от слез, да полно, с чего ей плакать?
Она и не помнила, как преодолела дорогу от автобуса до дома, пришла и упала, не раздеваясь, на кресло. Под вечер обеспокоенные соседи устроили митинг под ее дверью, которую Катя, к счастью, не заперла на засов. Доброхоты ворвались к ней, затормошили, побеспокоили, принялись раздевать, совать под мышку холодный градусник, поить бульоном. Катя хныкала, не открывая глаз, не сопротивляясь и не помогая, она была как тряпичная кукла. Термометр показал тридцать восемь и пять десятых. Ей вызвали «Скорую», и приехавшая фельдшерица объявила, что это обыкновенное ОРЗ, что она не видит показаний к госпитализации, но может забрать больную туда, где ее положат на сохранение беременности… В карантинный блок, разумеется. Среди женского населения квартиры пронесся негодующий ропот – вероятно, кое-кому было известно, что такое этот «карантинный блок», гетто для отверженных, где лежат бомжихи, цыганки, беспаспортные, бесправные, зачастую действительно больные женщины. Фельдшерица развела руками, выписала лекарства, которые не могли бы повредить больной в ее положении, и уехала.
За Катей ухаживали всей квартирой, и, пожалуй, загнали бы ее в гроб такой разнообразной и назойливой заботой, но молодость победила. Настало утро, когда она почувствовала себя совершенно здоровой и малыш поприветствовал ее толчками – впрочем, толчками легкими и почти нежными.
– Какая ты тихая, как мышка, – шептала Катя, поглаживая живот. – Молодец, детка, уж ты-то не докучаешь своей маме…
А вечером, когда Катя уже встала с постели и на кухне был устроен по поводу ее выздоровления импровизированный праздник – чаепитие с пирогами, в дверь позвонили.
– К тебе, Катюш, – оповестили ее Аня со Светой.
Катя удивилась – никто из знакомых не знал ее нового адреса. Но пришелец и не был из числа ее знакомых. Его проводили в кухню – парнишку с незначительным лицом, с пучком каких-то квитанций в руке.
– Вы такая-то? Нехорошо, сударыня. Эмилия Габриэловна три дня вам названивали, а вас к телефону не зовут.
– Так болела она! – встряла Лизавета. – А вы присаживайтесь… Ох как болела…
– Неважно, – строго прервал ее визитер, бросив брезгливый взгляд на предложенную табуретку о трех с половиной ножках. – Одним словом, сударыня, картиночки ваши все проданы. Соизвольте получить и расписаться…
– Все? Все картины? – переспросила Катя.
– То есть абсолютно. Эмилия Габриэловна говорят, что давайте еще. Говорят, у них уже есть заказчики на ваши полотна. Так что я заберу чего есть. – Парнишка заозирался, словно рассматривая висящие по стенам картины, но дело происходило-то в кухне, так что увидал он только дуршлаг бабушки Гульнар-апы, закопченную чеканку, изображавшую купчиху перед самоваром, да паутину по углам.
– Сейчас… сейчас… – шептала Катя. Она внезапно забыла собственную фамилию, – сумма на квитанциях была выставлена немаленькая.
Вежливый парнишка-курьер уехал и увез пять картин из числа тех, что Катя писала уже в «послепокровскую» эру, в оплаченной до октября студии. Одна, в пустоте, пронизанной лучами уходящего солнца, отрекшаяся от прошлого, не знающая будущего… И вот теперь у нее есть крыша над головой, есть добрые соседи… Пусть порой они бранятся и шумят, пусть засыпают, хмельные, прямо в уборной, пусть принимают поздних гостей и громко включают музыку! Зато Гульнар-апа непрерывно потчует Катю блюдами таджикской кухни, Лиза расставила ей брюки так, что в них вместился животик, дядя Витя чинит все, что сломается, его жена крутит в своей стиральной машине Катины простыни, а девчонки-студентки болтают с Катей, и поверяют ей свои сердечные тайны, и не дают забыть, что рядом продолжает цвести жизнь! Даже маленькая дочка Лизы приходит к Катерине в комнату и говорит, трогательно шепелявя:
– Тетя Катя, а наришуй мне шоба-а-чку!
И вот первая линия рождается на бумаге – удивительно ровная, но живая, не как по линейке. Потом появляется центральная точка – сердце будущего рисунка. Потом, когда с ракурсом и масштабом все определено, проступают очертания головы животного…
– Шовшем не похоше-е-е, – нетерпеливо тянет, заглядывая через руку художницы, девочка. – Какой-то шкелет!
– А теперь? – торжествующе спрашивает Катя.
С бумажного листа и впрямь вот-вот спрыгнет, и весело завиляет хвостиком, и звонко залает очаровательный пудель. Кудрявый и озорной.
– Мама, мама! – бежит показывать рисунок восхищенная девочка.
– Да не донимай ты человека! – слышится усталый голос Лизы. – Кого хочешь достанешь! Ну, давай сюда… Смотри-ка, и правда, будто живой.
Уложив дочку, Лиза молится Богу, Катя слышит это через тонкую стенку, и украдкой, стесняясь чего-то, повторяет за ней слова псалма:
– Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей, храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня…