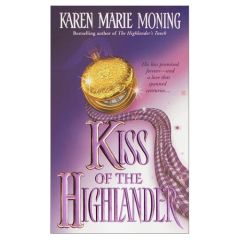Дом на Уотч-Хилл (ЛП) - Монинг Карен Мари
Бросив взгляд на Девлина, я порадовалась, что не позволила гордости повлиять на моё решение, когда он постучал во входную дверь вскоре после наступления темноты и спросил, не хочу ли я сходить выпить.
Я хотела спрятаться в своей спальне, скрыть свои муки от мира, ни с кем не говорить, лихорадочно расхаживать туда-сюда, разрываясь между горем и яростью. Успокоить свою кровожадную внутреннюю драконицу, попытаться угадать, кто вообще мог захотеть сжечь наш дом и убить мою мать. Справиться с любыми своими проблемами в уединении, как я всегда это делала.
Вместо этого я нанесла макияж, расчесала волосы, надела новую пару дизайнерских джинсов, которые облегали как перчатка, шёлковый топ и сандалии (от Jimmy Choo!) и заставила себя выйти с ним в свет.
Правда в том, что я боялась утратить последние остатки здравомыслия, если останусь одна в своей комнате, с одними лишь тёмными мыслями и взрывными эмоциями в качестве компаньонов. Или хуже того, осмелюсь войти в гараж, поеду на одной из машин в Новый Орлеан и выслежу мужчину, на которого хотела их обрушить, который великолепно пригоден для того, чтобы справиться с ними; мужчину, которого я больше никогда не намеревалась видеть, особенно потому, что я так интенсивно жаждала этого, а жажда — это обоюдоострый меч.
В первые четыре раза, когда нам с мамой приходилось так внезапно эвакуироваться из дома, что мы были вынуждены оставить позади всё, включая мои немногочисленные драгоценные игрушки, я рыдала в машине с разбитым сердцем… не говоря уж о том, что я была в ужасе, чувствуя каждую унцию маминой паники. И по сей день я не могу слушать песню Sweet Child o’ Mine. Она снова и снова пела её мне, пытаясь успокоить, пока мы стремительно уезжали в ночи. Намного позже я узнала, как много строк в песне она изменила, мудро опустив всю часть про «ох, куда же мы отправимся теперь?». Разве не в этом всегда заключался вопрос?
К пятому разу, когда мы опять бросили то небольшое количество вещей, что я когда-либо недолго называла моими, я была безупречно отстранённой. Безжалостность была проще для нас обеих. Мама и я, мы представляли собой замкнутую петлю эмоций; её горести и страхи были моими, мои — её. Задраивание наших люков защищало друг друга.
Вероятность того, что какой-то злобный пироманьяк случайно выбрал наш маленький, разваливающийся домик для поджога, не казалась мне правдоподобной. Я мало что знала о поджигателях, но в фильмах они склонны были выбирать известные мишени и наносить удар ночью, а не посреди дня. Здесь играло роль эго, зачастую зрелищность. А в чём вообще сложность сжечь крохотный дешёвый дом в изолированном провинциальном районе?
Может, прошлое наконец-то настигло нас? Мой отец до сих пор жив? От кого — эта мысль вызывала ещё больше тошнотворного жжения в моём нутре — мы бежали все эти годы и почему? Действительно ли это был мой отец? Был ли он ещё жив? Почему мама никогда мне не говорила? Почему я не выпытывала правду, когда повзрослела?
На этот вопрос я знала ответ. К тому времени, когда я стала подростком, мама была такой хрупкой, что я не желала обременять её ещё больше своими вопросами. Я не могла вынести мысли о том, что стану причиной дополнительных страданий. За годы, пока я всё сильнее изматывалась от жонглирования обязанностями, обречённость просачивалась в мои кости, такая же резкая и горькая, как холод любой зимы на Среднем Западе. Жизнь была такой, какая она есть. Не было времени на вопросы, только действия. Опасная штука эта обречённость. Она так незаметно и коварно высасывала из тебя жизнь, что ты начинала забывать, как когда-то чувствовала себя. Отсюда и мой агрессивный секс на одну ночь, чтобы напоминать себе, что я жива. Я могла выбрать что-то для себя, и это могло быть только моим, и сводиться только ко мне.
Теперь все эти вопросы осаждали меня. Когда стало слишком поздно, когда мама умерла, и я могла воспринимать её смерть лишь как что-то намеренное. Кто-то в этом мире нарочно поджёг наш дом, отчего моя мать умерла ужасной смертью. Будь то поджигатель или злодей из нашего прошлого, этот некто убил мою мать.
— Как прошла ваша первая ночь в особняке, мисс Грей?
Голос Девлина прокатился по мне, глубокий и бархатистый. Я глянула на него, сидящего за рулём машины — сильный и горячий как Аид в джинсах и рубашке с рукавами, закатанными выше татуированных бицепсов, и ткань белеет на фоне его тёмной кожи. Его волосы были длинноватыми, некоторые спадали вперёд, черты его лица представляли завораживающий эскиз теней и света, и я хотела сказать ему немедленно свернуть на обочину, содрать с него одежду и вывалить всё своё горе и ярость на его тело в надежде, что это немного прояснит мой разум.
— Хорошо, но если ты ещё раз назовёшь меня мисс Грей, я выйду из машины и пешком пойду обратно к дому. Зови меня Зо, Девлин. Видит Бог, больше никто не соглашается звать меня так, — мои слова окрасились раздражением.
— Тогда Зо, свирепая девушка. Сокращение от чего-то?
— Зодекай.
Произносится как ЗО-де-кай, с ударением на первый слог, и неизбежно коверкается любым, кто зачитывает его из списка. За всю жизнь меня никогда не называли свирепой. Девлин сделал это дважды. Неужели я так изменилась после смерти мамы, что люди могут чувствовать избыток эмоций, которые я испытываю? Как постыдно.
— Зо-д'кай, — пробормотал он, и я задрожала, когда он проурчал моё имя; оно никогда не звучало так красиво, так сексуально, когда его произносил кто-то другой. — Что-то означает?
Я не сказала ему, что там есть ещё два слога. Имя из пяти слогов неизбежно коверкали, так что я укоротила себя в начальной школе, настояв, чтобы меня звали просто Зо. Учителя переспрашивали: «З-о-и?». Я бесстрастно отвечала: «Нет. Просто как слово "но". Буква З и буква О». Зо — это сильное имя, могущественное. Как Оз задом наперёд, великий волшебник. Стоило добавить «и» (по моему мнению), и имя становилось мягче, приветливее. Нет смысла приближаться. Я сразу давала это понять. Зо — в точности как слово «нет» в английском языке. Нет, не узнавайте меня. Нет, не просите меня быть вашим другом. Мы не задержимся надолго.
Когда я спросила маму, откуда взялось моё имя, она пожала плечами и сказала, что ей понравилась последовательность слогов, и это отличный способ сплести воедино имя.
— Нет, насколько мне известно, — ответила я Девлину. — Куда мы отправляемся?
— В «Тени». Живая музыка, славный алкоголь, напоминает мне о пабе в Эдинбурге, в котором я часто бывал. Тебе нравится танцевать?
Мне нравилось, и поскольку я совершенно точно не буду заниматься сексом с Девлином Блэкстоуном в безумно дорогом мерседесе Джунипер Кэмерон, на самых мягких кожаных сиденьях из всех, что я когда-либо трогала, которые изумительно ощущались бы под моей голой задницей, когда он будет глубоко вбиваться в меня, я надеялась, что танцы очистят часть моих нестабильных эмоций. Мама привила мне свою обширную и разнообразную любовь к музыке. До того, как она так сильно заболела, было много раз, когда мы устраивали глупые танцы под её любимые группы в жанре глэм-рок.
— Я люблю танцевать.
— Супер, — сказал он с улыбкой, которая заставила меня несколько секунд тупо смотреть на него. — Готова познакомиться с некоторыми более интересными горожанами? — спросил он, паркуя машину на забитой парковке.
— Почему бы и нет? — я не могла представить, чтобы закостенелая, колючая мисс Бин и её овощной ковен проводили время здесь, с их идеальными костюмами и идеально уложенными волосами, и я определённо не могла стать ещё более раздражённой, эмоциональной и возбуждённой, чем уже есть.
Мне предстояло убедиться в собственной неправоте по всем этим пунктам.
«Тени» оказались совсем не такими, как я ожидала, и я удивилась, что подобное место существовало в городке таких размеров, как Дивинити. Клуб стоял обособленно, в нескольких милях от крайних домов и заведений, дальше по длинной аллее из соперничающих меж собой дубов, которые образовывали лиственный, завешенный мхом туннель вокруг дороги. Прямоугольное здание имело три этажа, а также небольшой четвёртый, который казался по большей части декоративным, хвастался классическими карнизами и слуховыми окнами, и я могла понять, почему это место напоминало Девлину о Шотландии. Оно наводило на мысли об отеле Монтелеон, с его замысловатой архитектурой и изысканным освещением, но здесь прожекторы светили вверх по белокаменному фасаду, чтобы залить окна кроваво-алым, подсветить карнизы тем же огненным свечением, непринуждённо сочетая элегантность с атмосферой «здесь происходит нечто коварное». Окна были высокими, арочными, обрамлялись зубцами из кованого железа. Такое заведение я бы ожидала увидеть в европейском городе, построенном давным-давно, когда ремесло было формой искусства, когда соблюдались языческие праздники, а женщин всё ещё сжигали на колах как ведьм.