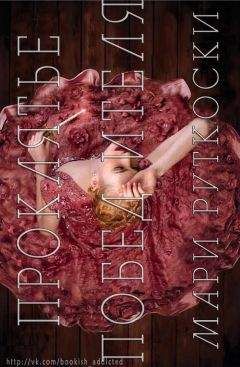Мари Руткоски - Преступление победителя
Служанка моргнула — это был единственный жест раздражения на то, что ее заставили поехать в гавань. Но Кестрел не позволялось путешествовать без сопровождения. В честь помолвки ей преподнесли сотни подарков: перо из рога рогатого кита, рубиновые кости от лорда одной из колоний, который прослышал о любви Кестрел к играм, и даже затейливую складную диадему для путешествий... Список даров был велик, но Кестрел с радостью рассталась бы с ними со всеми ради одного часа пребывания за пределами дворца в одиночестве.
— Поехали, — сказала она и больше не возвращалась в гавань.
* * *
Она ужинала с сенаторами. Поверх бокала с вином, Кестрел наблюдала, как глава Сената, который выглядел для зимы на удивление загорелым, тихо сказал что-то императору.
«Зачем ты подслушивал под дверями, — спрашивал капитан стражи у Тринна в тюрьме, — во время личной встречи императора с главой Сената?»
Внезапно Кестрел показалось, будто ее бокал наполнен не вином, а кровью.
Император перевел взгляд на Кестрел и увидел, что она смотрит на него и главу Сената. Он приподнял бровь.
Кестрел отвела глаза и осушила свой бокал.
* * *
Ее отец прислал свои извинения. Он не мог явиться на бал, так как завяз в войне на границе восточных равнин. «Я сожалею, — писал генерал Траян, — но приказ есть приказ».
Кестрел прекратила перечитывать краткие строки письма и уставилась на пустое место, оставленное на листе. От белизны бумаги ее глаза начали болеть. Она выпустила письмо из рук.
Она никогда не считала возможным, что ее отец приедет, — до тех пор, пока не получила его письмо и не распечатала его.
Эта ослепляющая надежда. И мрак разочарования. Ей не следовало удивляться.
Она вспомнила последнее слово письма — «приказ». Кестрел задумалась, как далеко может зайти подчинение ее отца императору. Что сделал бы генерал, окажись он в камере с Тринном? Вонзился бы его нож в плоть так же легко, как и нож капитана стражи, или с еще большей легкостью, или не вонзился бы вообще?
Однако, когда она подумала о своем отце в роли капитана, в темнице оказался вовсе не Тринн. В цепи была закована она сама. «О чем ты думала, — спрашивал генерал, — заключая с императором сделку, чтобы спасти раба?»
Кестрел встряхнула головой, чтобы избавиться от образа тюрьмы и своего отца. Она смотрела в окно одной из комнат своих покоев, которые находились высоко над внутренним двором замка. Окно выходило на башню у подъемного моста, по которому во дворец должны были въезжать гости.
Ладонью Кестрел стерла со стекла морозные узоры. Ворота башни были закрыты.
«Отойди от окна», — услышала она приказ своего отца.
Кестрел осталась стоять на своем месте. Стекло начало затуманиваться.
«Слова "нет" не существует, Кестрел. Есть только "да"».
Через окно снова ничего не было видно.
Кестрел отошла от него. Смотреть все равно было не на что.
* * *
Дни шли один за другим.
При дворе устроили представление. Выступал певец-геранец. Его голос был неплохим. Но более высоким, чем у Арина. Более тонким. Кестрел разозлилась, слушая, как голос этого неизвестного мужчины скрипел, пытаясь выйти за границы доступного ему регистра. Мелодия была плохой, писклявой. В ней не звучало ни капли силы голоса Арина, ни капли его грациозной упругости.
Кестрел тщательно оберегала воспоминание о песне Арина. Та песня лежала в ее сердце, будто медовый бальзам. По мере того как представление продолжалось, Кестрел начала беспокоиться, что музыка, которую она слышит сейчас, займет в ее душе место воспоминания о песне Арина. Он больше никогда не будет для нее петь. Что, если она утратит даже память о том, как однажды он спел для нее? Она опустила руки вдоль своего кресла и крепко сжала их в кулаки.
Наконец представление закончилось. Зрители встретили молчание певца своим собственным. Никто не стал аплодировать: не потому, что каждый сумел оценить дурное качество музыки; просто не было смысла аплодировать рабу, пусть даже он больше им не являлся. А Кестрел, которая ни на минуту не забывала, что этот мужчина собой представляет и чего ему не достает, также аплодировать не собиралась.
* * *
С собственными занятиями музыкой у нее дело тоже не шло. Рояль приносил совсем мало успокоения, да и то, что он приносил, казалось ложью. Кестрел начала изобретать нечто, что считала импровизацией, стараясь сделать мелодию как можно более сложной. А затем ноты стали толкаться, сжиматься и оставлять паузы, которые она не могла заполнить.
Ее мелодия не была импровизацией. Импровизации — удел солистов. То, что сочиняла она, оказалось дуэтом.
Вернее, не дуэтом... А лишь одной его половиной.
Кестрел опустила крышку на клавиши.
* * *
Она изобрела такую версию «Клыка и Жала», в которую могла играть в одиночку. Она начала соревноваться с призраком. С самой собой. Складилище — стопка карточек на столе, откуда игроки набирали свою комбинацию, — постепенно уменьшалось, а затем все карточки оказались на столе лицевой стороной вверх, будто некая окончательная истина, которую ей следовало бы осознать. Тигр оскалил зубы. Паук плел свою паутину. Мышь, рыба-камень, гадюка, оса... Внезапно черные гравировки на карточках из слоновой кости стали невероятно четкими, а затем расплылись под взглядом Кестрел.
Кестрел перемешала карточки и начала сначала.
* * *
Она пригласила на бал Джесс. В письме она почти умоляла подругу приехать. Пришло ответное письмо Джесс: она приедет, разумеется, она приедет. Она пообещала остаться с Кестрел по меньшей мере на неделю. Кестрел ощутила ужасное облегчение.
Но ненадолго.
* * *
Кестрел посещала чаепития с дочерьми и сыновьями высокопоставленных офицеров. Она ела канапе, сделанные на модном белом хлебе, который был отвратителен на вкус, потому что ради цвета в него добавляли толченый мел. Кестрел притворялась перед самой собой, что сухое ощущение в горле полностью зависело от хлеба и не имело ничего общего со все растущим чувством разочарования по поводу того, что Арин до сих пор не явился, хотя дни шли своим чередом.
* * *
В последнее утро перед балом, когда дворцовые наблюдатели за погодой предсказали собирающуюся в горах бурю, которая перекроет проход в Геран еще до заката, Кестрел стояла на скамеечке для примерки, а портниха прикалывала булавками к ее бальному платью полосу серебристого кружева.
Это были заключительные штрихи. Кестрел опустила взгляд на струящиеся каскадом ткани. Цвет сатиновой основы был непостоянен. Иногда он напоминал жемчужину, извлеченную из раковины. А затем падающий из окна свет тускнел, и платье становилось темным, начинало играть тенями.