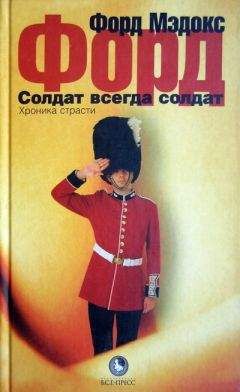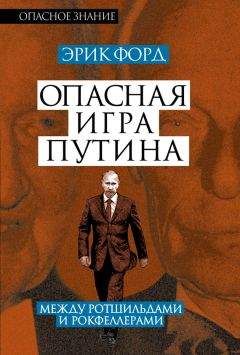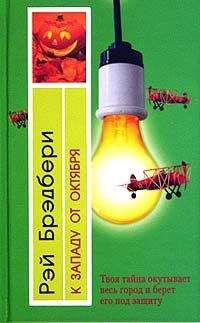Аннемари Шоэнли - Строптивая женщина
— А Давид?
— Мы живем теперь раздельно, как вы знаете. Он больше не вернется в фирму.
— И вас не волнует, что мы продолжаем встречаться с ним?
— Что-нибудь изменится, если я поставлю вас перед альтернативой: работа или он?
— Нет.
— Потому что вы его так любите?
— Потому что я тоже не позволю давить на себя. — Марлена глубоко вздохнула. — Вот разговоров будет! И сплетен…
Карола пожала плечами:
— Собаки лают — караван идет… Мне все равно, что скажут люди.
Они посмотрели друг другу в глаза.
— У меня пара свежих идей относительно нашего отделения на Востоке, — сказала Марлена.
— Интересно!
Марлена достала конверт из «дипломата», Карола подошла. Их руки соприкоснулись. Марлена отступила назад, и одновременно Карола отдернула руку. Обе смущенно улыбнулись, потом разложили бумаги на пустом столе, заказали кофе и углубились в работу.
Эпилог
1993 год
Молодая врачиха положила руку мне на плечо:
— Фрау Шуберт?
Я почувствовала, как внутри все сжалось.
— Вы можете пройти к дочери.
Я быстро встала:
— Как она?
— Лучше.
— А ребенок?
— Она сохранит его.
Я пошла за врачихой в палату в конце коридора. Андреа лежала в постели, повернувшись на бок. Ее глаза были закрыты, рот приоткрыт, и она едва слышно причмокивала языком.
— Снотворное, — объяснила врачиха, кивнула мне и вышла.
Я пододвинула стул и села, рассматривая лицо Андреа и поглаживая ее руку. Странное ощущение поселилось во мне. Вот эта чужая молодая женщина… часть меня? Или существо, ставшее самостоятельным в тот момент, когда перерезали пуповину? Да, это уж точно. Самостоятельная и своенравная. Снова, как часто бывает во сне, я вижу, как маленькие крепкие ручки копают землю под кустом смородины. На этот раз мы хороним котенка, которого переехала машина. «Звери ведь тоже члены семьи, правда, мамуля?»
Я вижу медный поднос с апельсинами. Девочка сидит за столом и мастерит рождественский венок. Снова сильные ручки в постоянном движении. «Эта свечка для меня, эта — для тебя, эта для — Никласа, а последняя — для бабушки и дедушки…»
Помню нашу прогулку в парке. Мы свернули с песчаной дорожки и бредем по сочной зеленой траве. Неожиданно Андреа опускается на корточки, сосредоточенно наблюдает за чем-то некоторое время, потом поднимается, сжимая в пальчиках крохотную улитку, кладет этот малюсенький домик на ладошку, и глаза ее полны печали и сострадания: «Почему маленькая улитка живет совсем одна в своем домике?»
Семья. Держаться вместе. Сидеть за одним столом. Вместе слушать музыку, смотреть детективы по пятницам. Вместе завтракать. Эта общность была чем-то священным для Андреа. Это Андреа научила меня, что значит слово «семья». Я всегда чувствовала силу, исходящую от моей дочери. Андреа отдает, не пытаясь сразу же получить назад. И это будет всегда, всю ее жизнь. Она будет лучше, чем я, готовить, шить и печь, будет беззаветно играть со своими детьми и превратит клише, которые я в свое время поставила под сомнение, в реальность. Будет думать сердцем чаще, чем это делала я. Конечно, она станет делать ошибки, переживать разочарования. Рождественские венки будут увядать, рецепты тортов желтеть, а ее дочери захотят стать чем-то совсем иным, чем была их мать. Художницами, врачами, политиками. Они захотят быть эмансипированными, удачливыми. Как их бабушка.
Андреа открыла глаза.
Я пожала ее руку:
— Как ты, моя маленькая?
Она вздохнула.
— Я так рада, что ты сохранила своего малыша.
Она сжала губы, не веря в мою радость.
— Ты же была против…
Я отпустила ее руку. Для одних опыт — тяжелая ноша, для других он естествен.
— Мне стало ясно, что ты права. Что свой опыт я не могу проецировать на тебя.
Мы немного помолчали. Потом Андреа повернулась на спину и уставилась в потолок.
— Жизнь такая… причудливая. С ума сойти. Я ненавижу болезни, больницы, но пока находишься здесь, в состоянии вынужденного покоя, самые разные мысли лезут в голову. Я о многом передумала, мама, пока лежала здесь. — Она улыбнулась. — Скорее всего я стану служащей. Учительницей например. Я не знаю другой специальности, более подходящей для семейных планов. Учителя воспитывают своих детей, помня о своем образовании, и у них это выходит лучше, чем у остальных смертных.
Я рассмеялась:
— Уж не зависть ли слышится в твоем голосе?
— Я просто лопаюсь от зависти, когда думаю об учительницах, — ответила Андреа.
На следующий вечер я пригласила Давида на ужин. Уже во время приготовления ужина я чувствовала, как мужество покидает меня. Ярко-фиолетовые блестящие баклажаны, лопающиеся под ножом, желтые стручки перца в салате, розовая лососина — я видела все это глазами Давида, поскольку он находил удовольствие в разнообразии красок и звуков и любил мое оформление блюд на столе. В последний раз я делаю это для него. Странно. Он, ни о чем не подозревая, идет ко мне, а наша разлука уже началась. Как тогда, в месяцы болезни моего отца, когда врач мог пообещать лишь еще чуть-чуть времени. С каждым посещением отец казался мне еще немного меньше, потому что каждый мой приход забирал еще частичку времени его жизни. На самом деле мы расстались с Давидом, когда умер Георг. И решение Давида переехать в Стокгольм, которое он принял, не спросив меня, не поинтересовавшись, отвечает ли это моим желаниям, означало начало прощальной симфонии. Две скрипки-соло стихают последними, но все же умолкают и они. И изменить это невозможно.
Он принес мне тюльпаны. Я открыла шкатулку, которую он подарил мне на день рождения. Браслет с маленькими рубинами.
— Я не могу принять это, Давид.
Он сказал, что это выражение его чувств ко мне. Нечто вроде подарка к помолвке.
И тогда я нанесла последний удар. Я сказала, что не поеду с ним в Стокгольм. Что я не хочу бросать свою работу в издательстве, не хочу уезжать отсюда, с юга Германии. Что я понятия не имею, чем могла бы заниматься в Стокгольме, этот город для меня — не больше чем название, за которым несколько расхожих понятий: замок, порт, Нобелевская премия, король по имени Карл Густав, очень холодная зима, волшебное, изумительное, но короткое лето. Шведская стенка, шведский стол, шведская семья.
Давид поднял голову и улыбнулся. В его улыбке уже была изрядная доля печали, он понял, что мое решение окончательное.
— Я не могу, Давид. Я не хочу уходить со своей должности. Она слишком важна для меня.
— Важнее меня?
Совершенно женский вопрос. И я отреагировала так же двусмысленно, как это обычно делают мужчины: