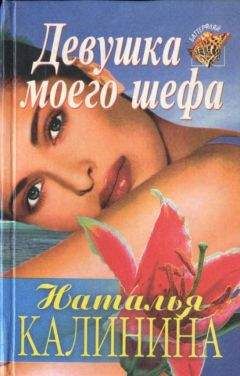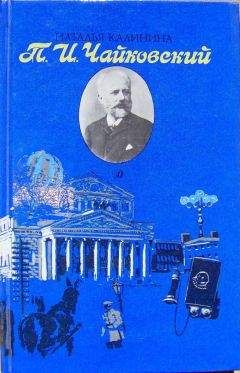Наталья Калинина - Прошлые страсти
— Тщеславие — движущая сила прогресса и в то же самое время мина замедленного действия, подложенная дьяволом при молчаливом согласии Господа. — Альберт ухмыляется.
— Подо что подложенная?
— Дьявола неодушевленные предметы не интересуют. Он специализируется в области человековедения.
— А если бы ты оказался на месте… того человека?
Альберт беспокойно ерзает на стуле.
— Принцесса и прокаженный. Сказки слабоумного Голливуда. С детства люблю разоблачать сказки.
— Неблагодарная работа.
— Зато ее оценят потомки.
Теперь их окружает тьма. Быть может, подобная тьма была на Земле до сотворения Господом света.
— Ты похорошела. Существам высокоразвитым страдания к лицу. Особенно это относится к женскому полу.
— Я бы не раздумывая вернулась в ту пору, когда страсти были заоблачными, бесплотными, безрассудными. Страсть всегда должна быть безрассудной, правда?
— Правда, но не для всех. — Альберт громко скрипит стулом. — И не для тебя.
— Но ведь страсть, как сказано в словаре, это сильное любовное влечение с преобладанием чувственного начала. Неужели кому-то удалось и страсть разложить по полочкам?
— Помнишь, я читал посвященные тебе стихи, звезды падали нам на плечи…
— Помню.
— Я сохранил их. Правда, их пришлось засунуть в полиэтиленовый пакет, иначе бы их конфисковали.
Альберт достает из кармана маленький пакетик, высыпает на стол несколько светлячков. В комнате становится тревожно от призрачного, словно неземного свечения.
— Спасибо. — Анастасия растрогана. — Ты как Дедушка Мороз с подарками из прошлого. С самыми дорогими подарками.
— Не рассчитывай, будто я оставлю тебе их навсегда.
— В ту пору в моей жизни был человеческий смысл. Но ты не прав — я совсем не тщеславна. Честолюбива — да, но только потому, что, как когда-то ты, хотела бы сложить все к ногам…
— Что, отказались от подарков? Изволили торговаться?
— Взять, что ли, тебя в придворные шуты? Вместе с твоими звездами?
— Значит, хочешь положить к ногам?
— Сложила бы, да хватает ума не делать этого.
— Своего или чужого?
— Чужого главным образом.
— Думаю, ты слишком мало предлагаешь. Нужно, как я, набить мешок под самую завязку.
Вбегает Лариса, щелкает выключателем. Светлячки гаснут. У Анастасии и Альберта грустные поблекшие лица.
— Мамочка, утопленника вытащили. Ты, кажется, хотела посмотреть… — Лариса замечает Альберта и говорит презрительно: — Салют вселенской поэзии. — И снова — к Анастасии: — Представляешь, он у самого берега лежал. В ямке. А его где только не искали! Катьке дурно стало…
— А мне никогда в жизни не было дурно. Только плохо. А плохо — это даже хорошо. От этого, говорят, хорошеют. Пойдешь со мной? — спрашивает она у Альберта.
— Я устал с дороги. Лучше спать лягу. Можно, как обычно, в саду?
— Можно. Как обычно. А я пойду на берег.
Лариса ходит кругами вокруг стола, за которым сидит Альберт.
— Что это за черви на столе? — спрашивает она. — Вы что, уже в труп превратились?
— Это звезды нашей юности. Разве ты не знаешь, что у нас с твоей мамой была общая юность?
— Вот уж нет! Первая любовь моей мамы живет все в том же ослепительном замке, а вовсе не в склепе.
— Мы с твоей мамой играли в карты под «Реквием» Моцарта и под этого. — Указывает пальцем в сторону Элвиса Пресли. — Как его?
— Валерий Леонтьев. Думаю, вы не вылезали из дураков.
— Это самое счастливое состояние.
— Что вы понимаете под счастьем? Когда-то вы утверждали, что красота спасет мир. А сами… Пиджачишко… Брюченки… А сандалии точно с помойки.
— Во-первых, мир не желает быть спасенным, во-вторых, лучше увлечь за собой ту, которая…
— В склеп?
— К звездам.
Альберт поспешно собирает со стола светлячков, бережно ссыпает их в пакет, который прячет в карман рубашки.
— Приятного полета.
Лариса убегает, изобразив за спиной Альберта сначала крылья, потом рога.
Альберт не спеша снимает пиджак, бросает его на стул. Роется в тумбочке, извлекает какую-то книгу. Потом гасит свет и устраивается на Ларисиной кровати. Зажигает карманный фонарик и при его свете читает.
Слышится топот ног, возбужденные голоса. Кто-то включает свет. В комнате появляются Катя и Николай Николаевич.
— Не бойтесь. Зря, конечно, вы пошли смотреть, — говорит он. — Утопленник еще страшней, чем висельник. У того деформированы только голова и шея, а тут все тело. Весной у нас один по пьяному делу угодил в пилораму…
— Может, не стоит, Николай Николаевич?
— Да его зашили, не волнуйтесь. Живым остался. Словом, пей дальше, Вася!
— А шрам страшный остался? У одного моего знакомого после операции остался такой страшный шрам, что все время хочется трогать его.
— У меня тоже есть шрам.
Сует под нос Кате вытянутый палец.
— На пальце неинтересно, Николай Николаевич.
— Другого, к сожалению, нет.
— А у утопленников… ммм… все органы так страшно распухают?
— Не знаю. Но у меня есть учебник по судебной медицине. Могу дать вам посмотреть картинки.
— Учебник не интересно. Живьем интересней. Ну, теперь я точно ночь не буду спать. Да и не одну наверное. Николай Николаевич, а вы хорошо ночами спите?
— Как когда. Извините, Екатерина Петровна, но мне пора. Без меня ни машины не найдут, ни путевки толком не выпишут. А Вещевайлова еще в город нужно везти, на вскрытие.
— Ужас какой! А тем, кто повесился, тоже вскрытие делают?
— Да. И тем, кого током убило, тоже. Ну, я пошел. Скоро Анастасия Евгеньевна вернется. Вот, скажу вам, мужественная женщина: совсем близко подошла — ни один мускул не дрогнул.
— Настек любит острые ощущения — они в ней возбуждают творческую энергию. А в вас какую энергию они возбуждают?
— Деятельную. Вынужден откланяться, Екатерина Петровна.
Он уходит.
Катя ставит стул под абажур, хочет сесть, как вдруг оборачивается и видит, что за ширмой кто-то есть. Она издает вопль, одним прыжком оказывается возле ширмы, валит ее на пол и замирает в удивлении.
— Фу ты, черт, а я и не знал этого Фицджеральда. Душа у него почти славянская. — Альберт невозмутимо листает страницы книги. — Я бы даже сказал, шопеновская душа.
— Ты? Упырь несчастный. Ты что, вычислил нас?
— Здравствуй, Катерина Сексуально Озабоченная. Одна из свиты. Приближенная фрейлина. Или тебя послала в разведку моя супруга?
— Пора бы тебе знать, что я никогда ни по чьему заданию не действую, — обиженно говорит Катя.
— Что верно, то верно. Давно из первопрестольной?