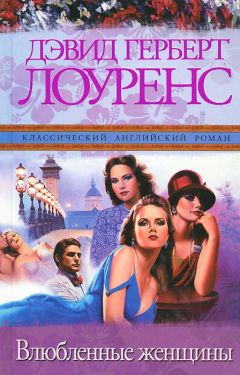Дэвид Лоуренс - Счастливые привидения
— Нам нужна война, вы согласны? Вы согласны, что мужчинам требуются битвы, чтобы придать жизни рыцарское благородство и воинский блеск?
А я, помнится, ответил:
— Может быть, нам и требуются битвы, но сам я не из воинов.
Дело было в августе, и мы еще могли рассуждать беспечно.
— А из кого? — тотчас переспросила Карлотта.
— Не знаю, сам по себе, наверно, — с усмешкой произнес я. В присутствии лорда Латкилла я чувствовал себя одиноким санкюлотом, хотя он старался не выпячивать свое происхождение и быть внимательным ко мне, но в то же время от него неуловимо веяло самодовольством и непрошибаемой уверенностью в себе. А я не был тем непробиваемым кувшином, что повадился по воду ходить.
Однако я не смел обвинить его в высокомерии, которого у меня самого было гораздо больше. Ему хотелось оставить авансцену за мной, пусть даже я был бы там с Карлоттой. Он так во многом был уверен, как черепаха — в своем отполированном панцире, отражающем вечность. И все же со мной ему пришлось нелегко.
— Вы из Дербишира? — спросил я, заглядывая ему в глаза. — Я тоже! Родился в Дербишире.
Ласково, но с некоторой неловкостью, он поинтересовался, не изменяя привычной вежливости, где именно. Я захватил его врасплох. Во взгляде устремленных на меня черных глаз появился страх. В самой серединке возникла пустота, словно он предчувствовал дурное. В обстоятельствах он не сомневался, зато сомневался в человеке, оказавшемся в этих обстоятельствах. В себе! В себе! Он почувствовал себя привидением.
Я знал, что он увидел во мне нечто грубое, но реальное, и увидел себя как своего рода совершенство, но вырванным из реальных обстоятельств.
Даже любовь к Карлотте, их женитьба воспринимались им как нечто нереальное. Это можно было определить по тому, как он медлил, прежде чем заговорить. И еще по пустому взгляду, почти сумасшедшему взгляду черных глаз, а также по тихому меланхоличному голосу.
Мне стало понятно, почему она околдована им. Но помоги ему Господь, если обстоятельства обернутся против него!
Через неделю ей вновь понадобилось встретиться со мной, чтобы поговорить о нем. Она пригласила меня в оперу. У нее была своя ложа, и мы сидели в ней одни, а печально известная леди Перт занимала третью ложу от нас. Похоже, Карлотта в очередной раз бросала вызов обществу, ведь ее муж в это время находился во Франции. Но она всего лишь хотела поговорить со мной.
Итак, Карлотта сидела впереди, немного наклонившись, и разговаривала со мной, не поворачивая головы. Всем тотчас стало ясно, что между нами liaison[49], правда, неясно, насколько dangereuse[50]. Ведь мы были на глазах всего мира — во всяком случае, ее мира — и она разговаривала со мной, не поворачивая головы, торопливо, но твердо выговаривая слова.
— Что ты думаешь о Люке?
Карлотта пытливо смотрела на меня глазами цвета морской волны.
— Он невероятно очарователен, — сказал я, не в силах забыть о множестве лиц в зале.
— Да, это так! — отозвалась она скучным гулким голосом, каким обычно говорила о серьезных вещах, голосом, звучавшим, словно металлический перезвон со странными далеко расходящимися вибрациями. — Думаешь, он будет счастлив?
— Будет счастлив?! — воскликнул я. — Что значит «будет»? Ты о чем?
— Со мной, — сказала она, коротко хихикнув, словно школьница, и глядя на меня робко, озорно и со страхом.
— Если ты сделаешь его счастливым, — небрежно произнес я.
— Как сделать?
Она произнесла это искренне, ровно, звучным голосом. Вечно она так, толкает меня дальше, чем я хочу заходить.
— Наверно, тебе самой надо стать счастливой, и ты должна знать, что счастлива. Тогда скажешь ему, что ты счастлива, скажешь, что он тоже счастлив, и он будет счастлив.
— Надо действовать именно так? — торопливо переспросила она. — Не иначе?
Я знал, что хмурюсь, глядя на нее, и она это видела.
— Наверно, нет, — ответил я резко. — Сам он ни за что не додумается.
— Откуда тебе известно? — спросила она, словно это было тайной.
— Не известно. Мне так кажется.
— Тебе кажется, — отозвалась она печальным чистым монотонным эхом, звучавшим как металл — она приняла решение. Мне нравилось в ней то, что она никогда не бубнила и не шептала. Но тогда, в этом чертовом театре, я мечтал, чтобы она оставила меня в покое.
На ней были изумруды, сверкавшие на белоснежной коже, и, всматриваясь в зал, она была похожа на гадалку, всматривавшуюся в стеклянный шар. Один Бог знает, видела ли она сверкание лиц и манишек. Я же понимал, что я — санкюлот, и не быть мне королем, пока тут носят короткие штаны.
— Мне пришлось немало потрудиться, чтобы стать его женой, — проговорила она быстро и четко, на низких тонах.
— Почему?
— Он очень любил меня. И сейчас любит! Но считает, что ему не везет…
— Не везет? В картах или в любви? — с иронией переспросил я.
— И в том, и в другом, — коротко ответила Карлотта, но с неожиданной холодностью и злостью из-за моего легкомыслия. — Это у них семейное.
— Что ты ему сказала? — спросил я с натугой, у меня вдруг стало тяжело на сердце.
— Я обещала, что буду везучей за двоих. А через две недели объявили войну.
— Ну, конечно! Не повезло не только тебе, всем не повезло.
— Да!
Мы помолчали.
— Его семья считается невезучей?
— Бортов? Ужасно невезучей. Она такая и есть.
Наступил антракт, и дверь ложи отворилась. Карлотта умела быстро ориентироваться и всегда держала ухо востро, так что ее не могли смутить изменившиеся обстоятельства. Она встала, словно первая красавица — а ведь она не была ею и не могла быть, — чтобы перемолвиться несколькими словами с леди Перт, и исчезла, не представив меня.
Карлотта и лорд Латкилл приехали к нам, когда мы жили в Дербишире, годом позже. Он получил отпуск. Она ждала ребенка, медленно двигалась и казалась подавленной. Рассеянный и, как всегда, очаровательный, лорд Латкилл рассказывал о Дербишире и об истории свинцовых рудников. Однако они оба как будто потерялись во времени.
В последний раз я видел их после войны, когда покидал Англию. Они обедали вдвоем, если не считать меня. Он все еще выглядел измученным, так как во время войны получил ранение в горло. Однако сказал, что скоро поправится. В его тягучем прекрасном голосе теперь звучала хрипотца. Бархатные глаза ввалились, но смотрели твердо, хотя в их глубине угнездилась усталость, пустота.
Я еще больше, чем прежде, мучился от нищеты и тоже чувствовал усталость. Карлотта воевала с его молчаливой опустошенностью. Едва началась война, печаль во взгляде ее мужа стала заметнее, а до поры, до времени не проявлявший себя страх превратился почти в мономанию. Карлотта все больше падала духом и теряла красоту.