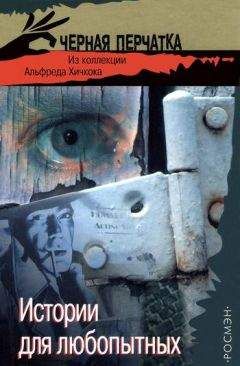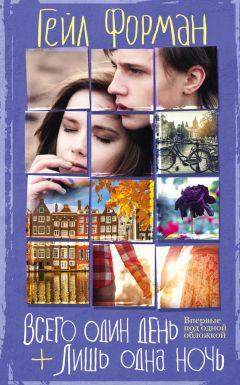Диана Вишневская - Цыпленок на полотенце
В следующий раз ты попробовала защититься более вежливым методом. На середине маминого монолога топнула ножкой и потребовала:
— Не кричи на меня!
Щелк — с мамой произошло превращение. Она снова стала доброй и прекрасной. Еще минута — и ты бы бросилась к ней с радостным визгом: «Мамочка, любимая, ура!»
И вновь вмешался отец.
— Ты как с матерью разговариваешь?! Это твоя мать!
С тех пор ты не смела отвечать, не смела защищаться. Теперь ты чувствовала себя бесконечно виноватой перед родителями сразу во всем.
Обычно ты выдерживала не больше часа крика и оскорблений. Ты начинала рыдать — истерика, задыхаешься, не можешь остановиться.
Мама как-то сразу успокаивалась. С минуту она молчала, умиротворенная и веселая, а потом говорила насмешливо: «Ты на себя-то погляди. Рева-корова. Морда красная, опухшая, глаза заплыли, губы распустила. Корова. Фу, смотреть противно — корова».
Отец опускал газету, переглядывался с матерью и улыбался. Этот понимающий обмен взглядами, насмешка матери: «Она как корова», насмешка отца: «Это уж точно».
Ты была слишком маленькой, чтоб понять — отец в эти минуты вовсе не считал тебя похожей на корову. Он вообще не думал о тебе — просто не принимал тебя в расчет. Думал отец о маме. И улыбался потому, что был доволен — любимая жена, наконец, успокоилась и больше не волнуется. А насмешка на его лице появлялась просто оттого, что он смотрел на маму, та чему-то усмехалась, и лицо отца принимало такое же выражение.
Тебе было восемь лет, ты не могла всего этого понять. Тебе казалось, что насмешливое переглядывание отца с матерью означает: они заодно, они оба испытывают к тебе одинаковое презрение и смеются над тобой.
Ты чувствовала себя уродливой, похожей на корову. От этого истерика усиливалась, перестать плакать было совершенно невозможно.
«Что ревешь-то?» — почти дружелюбно говорила мама. И добавляла с подчеркнутым отвращением (весело, спокойно, уверенно, с отвращением, нет, даже с гадливостью, будто к куче кала, которую кто-то навалил посреди ее квартиры, как раз на том месте, где ты сейчас стоишь): «Фу-у, корова…»
Тебе было нестерпимо стыдно за то, что ты не можешь остановить истерику, а в результате вызываешь у людей такую гадливость. Ты бежала в свою комнату, утыкалась лицом в угол между стеной и шкафом, бежала, отворачивалась, пыталась спрятаться, чтоб тебя не видели, такую уродливую, чтоб самые главные в мире люди не смеялись над тобой и не морщились от подступающей тошноты при виде тебя.
Но то, что ты исчезала из поля зрения матери, похоже, нарушало спокойное и умиротворенное состояние родителей. Это не входило в планы мамы — потерять над тобой визуальный контроль. Твой наглый побег родителей всегда возмущал. Особенное возмущение выражал отец. Видимо, когда ты убегала, мама молча, взглядом просила его о помощи. Иначе как объяснить, что отец, спокойно читавший газету всё время, пока мать осыпала тебя оскорблениями, теперь, когда ты спряталась, вдруг терял душевное равновесие?
Он вставал с кресла, шел к тебе в комнату, и обвиняюще, с презрением говорил: «Что ты ревешь? Что ревешь?! Себя жалко, да? Себя жалко?!»
Тебе было очень стыдно, ты пыталась остановить слезы, но у тебя ничего не получалось. Тогда отец окончательно выходил из себя. Он издавал возмущенное восклицание, он задыхался. Потом он махал рукой: «А!», и уходил на кухню.
После этого в твоей комнате появлялась мама. Она была сама доброта, спокойствие и забота. «Посмотри, до чего ты отца довела, — ласково, укоряюще говорила она. — Он на кухне, он теперь весь вечер не успокоится. Ты бы хоть отца пожалела. Он для нас столько делает, столько работает, чтоб мы могли себе хоть что-то покупать, он устает. И я работаю, я болею, я тоже устаю. Мы для тебя ничего не жалеем — и комната у тебя своя, и одевать тебя стараемся лучше других, и карманные деньги всегда даем…»
Это была правда — Ане никогда не приходилось краснеть за свои платья и джинсы перед одноклассницами, родители покупали ей хорошую, дорогую одежду. Карманных денег у неё всегда было достаточно, чтоб купить пирожные и себе, и подружкам. Ну, а своя комната… Да, отдельная комната у Ани была с первого класса.
Своя комната. Счастье, спасение — своя комната! Что бы Аня делала без нее, куда бы бежала, если бы не было этого угла между стеной и шкафом?
«А ты — неблагодарная, — укоряла мама. — Хоть бы отца пожалела!»
У мамы был добрый, ласковый голос. И Анина истерика начинала сама собой прекращаться. Аня продолжала плакать, но уже по-другому — успокаиваясь, чувствуя любовь к маме и папе, которые так много делают для неё. Она была благодарна, как беспомощный щенок, которого пусть и избили, но теперь — пожалели, погладили, дали понять, что не выбросят его на помойку.
Аня вспоминала о том, как полчаса назад мать кричала: «Ты! Еще ни копейки не заработала, а смеешь тут указывать! Сидишь у нас на шее — так молчи и делай, что тебе говорят!» Аня понимала — мама права, от дочери одни убытки, один вред родителям. И Аня чувствовала благодарность: к ней, такой отвратительной, все-таки хорошо относятся, о ней, такой никчемной, совершенно бесполезной, несмотря ни на что, заботятся.
Аня успокаивалась. Она обнимала маму. А через некоторое время с кухни возвращался отец, садился в свое кресло, брал в руки газету. В семье воцарялся мир.
Они — родители — поддерживали друг друга. Отец любил жену и, наверное, просто не думал о ребенке. Может быть, поэтому абсолютно всю ответственность за единственную дочь он передал жене.
Мать много раз била тебя ремнем у отца на глазах. Ты плакала, убегала в свою комнату, пыталась спрятаться в кладовке. Мать догоняла и снова била. Отец относился к этому спокойно — жена воспитывает дочь, матери лучше знать, как воспитывать дочь.
Ты, второклашка, забивалась в кладовку, закрывала дверцы, пыталась удержать их изнутри. Взрослая мать была сильнее, она рывком распахивала дверцы и с размаху хлестала тебя ремнем, свернувшуюся на полу. Хлестала и хлестала, снова и снова.
За что била? За тройки в тетрадках. За четверки в дневнике. За разбитую кружку. За то, что не стерла пыль с серванта и плохо вымыла посуду.