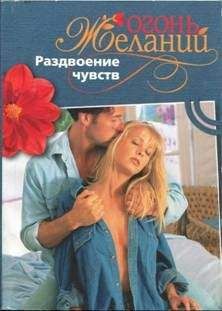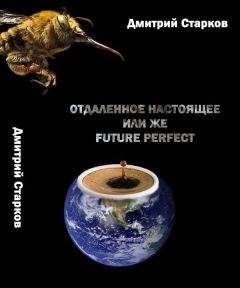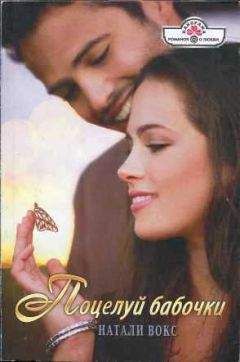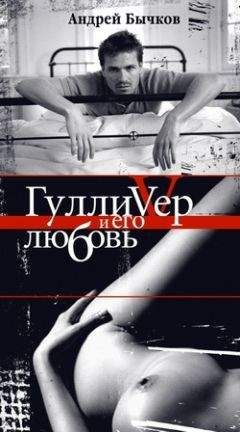Натали Митчелл - Жаркие ночи
Что оставалось? Я сказала:
— Риса так риса. Где его можно раздобыть?
Он расхохотался:
— Да я шучу, что ты! Здесь отличные рестораны. Всего навалом. Что ты любишь?
Я ответила неуверенно:
— Салаты…
Кевин подскочил, уронив журнал, и принял услужливую позу официанта:
— О! Могу предложить, мисс, изысканный салат «Лаб Моо» с ароматом сушеного риса и тайских трав.
— Это вкусно?
— В нем еще можно отыскать цыпленка или свинину — по желанию! Впрочем, мисс, наверное, соблюдает диету?
— Ну… Более или менее.
— В таком случае рекомендую вам отведать салат «Нирвана».
Я издала эротический, как мне показалось, стон:
— О, «Нирвана»?!
Он охотно пояснил:
— Из экзотических овощей и фруктов.
— Кевин, я не соблюдаю диету.
— Неужели?
— Дома я лопаю гамбургеры.
— Ты удивляешь меня все больше, — заметил он, удивив меня не меньше.
— А ты уже попробовал все эти чудо-салаты?
— Нет, — улыбнулся он. — Я только что прочитал ресторанное меню.
То, что я приняла за журнал, было, оказывается, меню ресторана. Опустив голову, я смотрела на зеленую обложку с видом коттеджей с остроугольными крышами, и пыталась загнать внутрь слезы, которые уже готовы были поползти по щекам. Кевин собирался повести меня в ресторан… Кевин помогал мне. Он был со мной. Ради меня он рушил свои планы.
— Хочешь банан? — донесся его голос. — Недавно с дерева, это не то что в супермаркете.
Какие супермаркеты могут быть в раю?!
Конечно, я согласилась на банан, и, усевшись возле раскрытого окна, мы с Кевином слопали по паре длинных, ровных плодов, вкус которых и впрямь показался мне особенным. Ветер с моря доносил солоноватый привкус счастья, который всегда бывает таким из-за того, что приходится вдосталь наплакаться прежде, чем заслужишь его. Но сейчас оно не казалось мне настолько далеким, как было еще, скажем, пару дней назад.
Мы ни о чем не говорили с набитыми ртами, в которых растекалась сладость, только все время переглядывались и улыбались друг другу. И я подумала, что так хорошо мне вряд ли было бы даже в постели, на шелковых простынях. Я пыталась запомнить все ощущения этих минут: близкий, вкрадчивый говор моря, обилие пьянящих цветочных запахов, тепло плеча Кевина, которого я слегка касалась. Когда еще это могло случиться со мной?
— В какой манере он пишет? — спросила я о его отце, когда с бананами было покончено и золотистые шкурки осели крупными лилиями на подносе.
Кевин задумался:
— У него нет единой манеры. Он экспериментирует в каждой своей работе.
— Наверное, это наивный вопрос… Но тебе нравится, как он пишет?
Он улыбнулся:
— Верно, наивный.
— Ну, прости! Я не слишком искушенный знаток живописи. Не хочешь, не отвечай.
— Я просто не знаю, что тебе ответить.
Нужно было отстать от Кевина, а я продолжала допытываться:
— Но ведь у тебя есть какое-то отношение к его работам?
И он ответил так жестко, как ни разу до сих пор не говорил со мной. Вообще ни с кем.
— У меня есть определенное отношение к нему. И я не могу отделить для себя художника от отца. Может быть, это неправильно.
«Я тоже не могу, — подумала я. — Эти проклятые чемоданы так и громоздятся между мной и моим отцом. Ни одному из нас не преодолеть эту гору».
Следовало бы сказать об этом Кевину, вдруг ему стало бы легче оттого, что не один он такой — сирота при живом отце. Но почему-то я не могла даже заговорить с ним об этих чемоданах.
— Я не должен тебе говорить, — внезапно произнес он с досадой. — Но я надеюсь, ты никому…
— Само собой, никому!
Кевин резко взмахнул рукой:
— Ты видишь, как он живет? Тебе нравится?
— Ну… — неуверенно промычала я, боясь попасть впросак.
— Шикарно, правда? И ты правильно заметила, он так живет уже несколько лет. Почти десять.
— Десять?!
— И все это время мама работает, как проклятая, чтобы выжить с тремя детьми. Пишет и пишет свои статьи днями и ночами.
Я уточнила:
— Она журналист?
— И хороший. Но у нее ведь никакой личной жизни. Совсем никакой. Разве это нормально? Только дети.
Заметив мой взгляд, Кевин оговорился:
— Ну, я, положим, уже не ребенок, и мне назначили стипендию, я не сижу у нее на шее, но у меня ведь две сестры! Еще школьницы. Им обеим хочется учиться, они чертовски способные девчонки, а отец упорно делает вид, что его это не касается. И еще говорит, что, мол, вообще не бабское это дело.
Это уже и меня задело за живое:
— Ах, вот как?!
— Это была последняя попытка, — жестко проговорил Кевин, сжав переплетенные пальцы. — Больше я не хочу иметь с ним никаких отношений. Не приеду, не напишу. До этого мама не раз писала ему, но он… Да ладно! Какое тебе дело до всего этого!
— Какое мне дело? Да я…
Вскочив, я схватила Кевина за руку:
— Пошли отсюда, пока он не выбрался из своих джунглей.
Мне вдруг представилось, как звери бросаются врассыпную, едва заслышав шаги Роберта Райта: «Могучий белый человек идет!» А он шагает себе, сшибая пальмы, жизнерадостный и беззаботный, с легкостью бросивший троих детей ради…
Впрочем, тут же устыдилась я, если б у меня обнаружился талант, о котором мне только мечтается, разве я не поступила бы точно так же? Судить поступки художника имеет право лишь такой же художник. А может, только Бог.
И, словно услышав мои мысли, Роберт вдруг ворвался к нам в комнату, забыв о своем обещании предварительно позвонить. Нас с Кевином одновременно бросило в жар, будто нас застали за чем-то постыдным. А ведь, если кому из нас троих и следовало стыдиться своих поступков, это были явно не мы.
— Я решил писать ваш портрет! — громогласно провозгласил Роберт, ткнув в меня пальцем. — Алисия, вас надо писать на фоне волн. В вас чувствуется похожая неуспокоенность. Идемте! Я знаю тут роскошную бухточку. Немедленно, скоро начнет смеркаться!
— Мой портрет…
До сих пор никому из моих знакомых, хоть и начинающих, но все же художников, я не казалась подходящей моделью. То, что моим лицом заинтересовался настоящий художник, мгновенно приподняло меня в собственных глазах. Мне вдруг почудилось, что мое лицо, мои руки, волосы и впрямь хороши так, что их следует немедленно запечатлеть на холсте. Если не для потомков, то хотя бы для современников.
Я покосилась на Кевина: почувствовал ли он то же самое? Он утверждал, что сам не умеет рисовать, но и не заговаривал о том, чтобы писать меня. Он мечтал запечатлеть тайских детишек. Они были ему интереснее, чем я со своим прекрасным лицом…