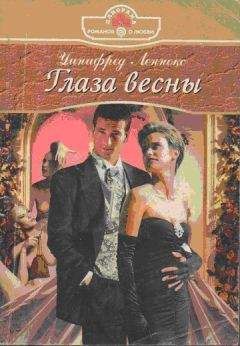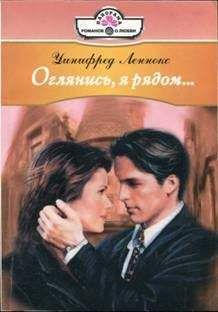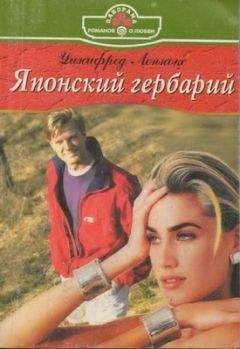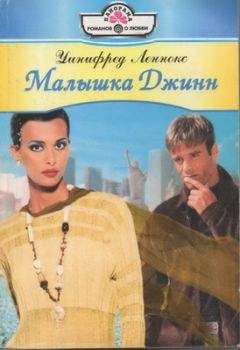Уинифред Леннокс - Русалочка в черном
На сей раз вкус напитка стал иным. Теперь он напоминал терпкое виноградное вино. У Памелы, и без того ошеломленной всем происходящим, слегка закружилась голова и веки опустились сами собой. Однако в следующее же мгновение она ощутила такой прилив сил, словно проспала не менее восьми часов в мягкой постели.
Вновь взглянув на Мириам, она слабо охнула: глаза колдуньи — а теперь Памела уже не сомневалась, что это именно так, — посветлели и налились изумрудной зеленью, отчего лицо непостижимой женщины сделалось еще прекраснее. Но в душе Памелы не зародилось и тени страха. Когда губы Мириам раздвинулись в улыбке, обнажив ровные белые зубы, гостья ответила тем же.
— Ты умеешь улыбаться, — ласково проговорила колдунья. — У тебя настоящая улыбка, редкий дар. Ты улыбаешься сердцем, а это так нелегко, когда оно плачет…
Памела вздрогнула, как от удара и, словно защищаясь, подняла руки.
— Н-не надо, — пробормотала она. — Ты ведь гадалка, я поняла, ты читаешь по лицу… или как-то иначе, но не надо! Мне и без того больно!
— Надо, Русалочка. — Глаза Мириам, теперь аквамариново-прозрачные, такого же, как у Памелы, цвета, печально смотрели на собеседницу. — Надо именно потому, что боль твою скоро не вместит сердце и она прольется через край, сжигая на своем пути все, подобно раскаленной лаве, и оставляя позади бесплодную пустыню, которая никогда уже не даст всходов. Сердце твое плачет кровавыми слезами, соски тоскуют по младенческим губам, касания которых так и не изведали, грудь полна молока…
Впав в оцепенение, Памела слушала гортанный голос, доносящийся словно издалека, завороженная плавными движениями смуглых изящных рук Мириам, переливами жемчужного шелка на широких рукавах ее одежды… Все вокруг словно заволокло туманом, бокал выскользнул из ослабевших пальцев…
— Дыши! Дыши! Ну же!
Хватая потрескавшимися губами воздух, она уже ничего не понимала, отталкивая руки акушерки, извиваясь, в судорогах, не в силах кричать. Мука эта длилась уже часов десять… или двенадцать — впрочем, какая разница? Памела молила небо лишь об одном — о смерти. Казалось, вот-вот придет желанный покой, небытие, в котором нет ни рвущей на части тело боли, ни измены, пи обмана — только покой…
— Дыши, маленькая дрянь! — Над нею склонилась седая женщина в роговых очках, прижимая к ее лицу кислородную маску. — Дыши, я кому сказала!
Сделав нечеловеческое усилие, Памела оттолкнула маску.
— Не хочу. Не хочу жить… Не хочу этого ре-ребенка… Отпустите меня!
Очередная судорога боли скрутила ее, и Памела забилась в руках врача и акушерки, хрипя и задыхаясь.
— Не выйдет! Тебе уже семнадцать, ты сильная и здоровая.
— Я все равно не стану жить… — прошептала она посиневшими губами, когда боль слегка отпустила. — Вы… вы ничего не знаете…
— А о ребенке подумала? Он вот-вот появится на свет, а ты уже ненавидишь его! — Теплая ладонь пожилой женщины-врача легла на горячий лоб роженицы. — Ну полно, успокойся! Скоро ты познакомишься с малышом, и тогда…
— Не-е-ет! — отчаянно закричала Памела. — Отпустите меня!
— Черта с два, дыши! Сестра, маску! — Врач была неумолима. — И приготовьте все для наркоза. Кажется, пора…
Памела извивалась, вырывалась, но тщетно: в вену впилась тонкая игла, словно хоботок неведомого кровососа, перед глазами замелькали какие-то искорки, и она стала плавно погружаться туда, где не было ни боли, ни темного ужаса перед грядущим… Неужели это конец?
Очнувшись, она испытала поистине райское блаженство, заключавшееся в отсутствии боли. Широко раскрыв в темноте глаза, облизнула искусанные, вспухшие губы. Постепенно из окружающего мрака выплыли очертания спинки кровати, ночного столика, крошечной колыбельки…
Памелу подбросило словно пружиной. Ребенок! Он все-таки родился. И она жива…
От резкого движения внутри снова пробудилась боль, но Памела уже не думала о ней. Двадцать восьмое июня. День ее рождения. И его…
Подойти к колыбельке? Нет, никогда! Она с трудом выпростала из-под казенной простыни длинные ноги, спустила их на пол, выпрямилась… Приступ дурноты едва не испортил все дело, но Памела успела ухватиться за спинку кровати.
Видимо, ребенок в колыбельке что-то почувствовал — зашевелился, закряхтел, потом заплакал. Плач этот, горький и отчаянный, подействовал на юную мать словно удар тока — Памела задрожала всем телом, сделала шаг к колыбельке…
Ну и куда ты пойдешь, девочка? Домой, к матери, сердце которой разорвется от горя, узнай она о твоем позоре? Или пустишься вдогонку за Шоном, умоляя, упрашивая? Твоя ирландская гордость не позволит тебе ни того, ни другого, Ты сама знаешь. Самое лучшее — бежать, бежать без оглядки прямо сейчас.
Она только подойдет к колыбельке, только взглянет на дитя, родившееся в один день с нею…
Нет! Ты прекрасно понимаешь, дурочка: стоит тебе сделать это — и ты никогда уже не сможешь уйти!
Пересиливая боль и сковывающую тело усталость, борясь с головокружением, Памела подошла к окну, тихонько открыла тяжелую раму… Водосточная труба. Подойдет. Развитая мускулатура и на этот раз не подвела ее — спуститься со второго этажа оказалось плевым делом. А позади не умолкал зовущий младенческий крик…
Вот босые ноги коснулись влажной травы, вот она стремглав бежит прочь от клиники, больничная рубашка не достигает колен — а детский плач делается все громче… Ветви хлещут по лицу, рвут рубашку, Памела спотыкается о корень дерева, падает лицом вниз и теряет сознание. Только тут где-то далеко позади умолкает ребенок — или она просто перестает слышать его зов?..
Открыв глаза, Памела зажмурилась — солнце, стоящее почти в зените, буквально ослепило ее. С трудом поднявшись, она огляделась. Далеко убежать не удалось — до больничной ограды осталось несколько десятков метров. Ничего, даже при свете дня она сможет ускользнуть, и никто ее не остановит!
Но что это? В истерзанном теле обнаружился новый источник боли — груди налились и отяжелели, тонкая рубашка промокла насквозь. Коснувшись сосков кончиками пальцев, Памела глухо застонала и опустилась на траву. Кружилась голова, стучало в висках. Уронив руки на колени, юная мать дрожала, но не от холода — день выдался на редкость теплым. Неужели у нее жар? Дотронувшись до пылающего лба, она поморщилась: лицо было исцарапано — наверное, во время ночного бегства.
Потом она не могла припомнить, сколько часов просидела так, не думая ни о чем, тупо уставясь на узловатые корни, мало-помалу приходя в себя. Постепенно всплывали в памяти лица врача, акушерки, больничная палата, крохотная колыбелька… Зазвенел в ушах жалобный плач покинутого ребенка.