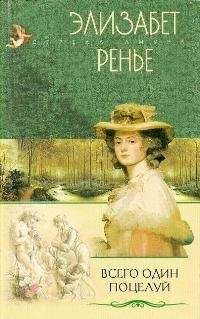Елена Арсеньева - Несбывшаяся любовь императора
Воспоминания о той сцене она долго и тщательно гнала прочь. Постепенно ей удалось внушить себе – возможно, что тут тоже не обошлось без пресловутого месмеризма и магнетизма! – что на Дюра она зла не держит, что ей удалось бы добиться своего, что счастье, как в романе модного стихоплета Пушкина, было так близко, так возможно… и все сладилось бы по ее хотению, кабы не появилась вдруг эта девчонка, Варя, эта Асенкова…
С тех пор фамилия сия сделалась для Натальи Васильевны в некотором роде жупелом, и ей в конце концов совершенно удалось загнать в невозвратимые бездны былого память о том, как посмотрел на нее Николай Дюр, когда она оголилась перед ним. В этом взгляде читалось отвращение, смешанное с паническим ужасом.
Понятно, что о таком позоре не хотелось вспоминать. Гораздо удобнее было думать, что во всем виновата эта Асенкова!
Так Наталья Васильевна и думала.
* * *
– «Репертуар этого спектакля был незавиден, зато бенефис г. Сосницкого прекрасен в другом отношении. Поспешим сказать что-нибудь о предмете, для которого беремся за перо. Поздравим любителей театра с новым, редким на нашей сцене явлением. Мы хотим сказать, что день, когда девица Асенкова появилась на сцене, может остаться памятником в летописях нашего театра… Неожиданно улыбнулась нам Талия[10]: 21 января девица Асенкова вышла на сцену – вышла и как будто сказала: «Во мне вы не ошибетесь!»
Александра Егоровна умиленно всхлипнула.
В дверь постучали.
– Кто, ну кто мог помешать в такую минуту?! – возмущенно возопила она. – Кто?!
– Войдите, прошу! – вскочила Варя, с облегчением переведя дух. С самого утра маменька читала вслух газетные рецензии, и Варя уже порядком подустала слушать безмерные похвалы в свой адрес. То есть сначала, конечно, ей было очень приятно, но потом сделалось немножко не по себе. Как будто лежишь в гробу, а над тобой каноны читают. Или собрались любящие тебя люди и ну рассказывать друг дружке, какая ты была хорошая… необыкновенно хорошая, ну прямо лучше тебя на свет не нарождалось! А ты в гробу лежишь, слушаешь все это и об одном жалеешь – что не можешь вскочить, сдернуть со лба черную ленту и флердоранжевый венок, который непременно цепляют на голову умершим девицам, да закричать во весь голос: «Да что вы всякую чушь городите?!» Именно поэтому Варя и вскочила радостно, и воскликнула:
– Войдите!
Появился привратник. Нет – сначала появились цветы. Их было, как показалось Варе, какое-то неимоверное количество! Ах… Оранжерейные, баснословно дорогие розы, тюльпаны, гиацинты самых разнообразных оттенков! Охапками! Да какими! Наверное, все теплицы Санкт-Петербурга опустошили ради того, чтобы в узкую дверь квартиры на четвертом этаже вплыли эти благоуханные облака, из-за которых звучал почтительный голос:
– Вам-с, Варвара Николаевна! Вам-с!
– Боже… – сдавленно выкрикнула Александра Егоровна. – Даже Семеновой[11] столько цветов не дарили! Ох, как жаль, что у нас не водится обычай, как во Франции, бросать букеты на сцену! Тебя вчера средь них просто не было бы видно!
– И это еще не все! – возбужденно вскричал привратник, у которого были совершенно круглые глаза. Савелий Петрович уже изрядное время служил в доме Голлидея, при актерах, всякого навидался, однако и он такое изобилие цветов зрел и обонял впервые. – В привратницкой еще целый сноп! Сейчас принесу. Только дайте какой-никакой фартук или скатерку, чтобы их завернуть, а то я вашими розанами все руки исколол. – И в доказательство он повертел заскорузлыми ладонями, на которых и впрямь кое-где виднелись капельки крови.
Александра Егоровна сунула ему какую-то старую, вытертую плюшевую накидку с кресла, и Савелий Петрович торопливо затопал вниз по лестнице.
Тут набежали сестры, вместе с маменькой принялись разбирать букеты. При некоторых были подписанные от руки карточки, и девчонки с упоением выкрикивали наперебой:
– От какого-то неизвестного дарителя! От поклонника вашего несравненного таланта! От сраженного силой вашего актерского мастерства! От влюбленного в ваш чудный голос! Ой, Варенька, в тебя влюби-и-ились! А вот как красиво написано – «разбившей мое сердце»! Слышишь, Варенька, ты разбила чье-то сердце!
– А что? – гордо отозвалась Александра Егоровна. – И очень просто! Ах, знали бы вы, сколько сердец в свое время разбила я!
Нынешний супруг ее, Павел Николаевич Креницын, служивший содержателем зеленых театральных карет, в которых обыкновенно развозили после спектакля по домам актеров (в одной из таких карет вчера прибыла домой пьяная от восторга и шампанского Варя), хмыкнул. Александра Егоровна знала, что муж не любит таких разговоров, и мигом поправилась:
– Но Варенька дальше пойдет на этом пути, гораздо дальше! Мы эти сердца сотнями будем считать!
– Ах, какой аромат! – воскликнула младшая сестра, Оля. – У меня прямо голова кружится! Какая же ты счастливая, Варенька!
Варя пожала плечами, перебирая карточки. Она была, конечно, обрадована, у нее, конечно, кружилась голова от густого цветочного аромата, но в то же время насмешливая улыбка нет-нет да и касалась губ. Она сразу обратила внимание, что среди карточек нет ни одной визитной. Все эти кусочки разноцветного картона – из тех, что продаются в цветочных лавках, дабы пославший цветы мог приписать несколько слов и отправить вместе с букетом. И выражения восторга, по сути, анонимны. Редко где стоят инициалы, а то все больше безликие NN, SS, Anonym, г-н К. и все такое прочее. Ну что ж… Она заранее знала – с детства к этому привыкла! – что артистки вызывают вожделение и восторг, но не уважение. Связей с ними ищут – но в то же время стыдятся. Стараются, чтобы о поклонении таланту не говорили в обществе громко. И твердо помнят: quod licet Jovi, поп licet bovi – что позволено Юпитеру, не позволено быку.
О да, лишь немногие могут открыто выразить свое восхищение талантом, не заботясь о молве.
А разве ей нужны все эти многие? Весь этот ворох цветов, которые через два дня придется выносить на помойку, – ничто в сравнении с самым дорогим подарком, который она получила вчера.
Она подошла к зеркалу. У той, что взволнованно смотрит из затуманенной глубины, Варины синие глаза, темные волосы, тонкие черты и – тяжелые бриллиантовые серьги в ушах. Даже потемневшая амальгама старого зеркала не в силах приглушить их блеск.
Варя вскинула руки и коснулась серег. Они качнулись, снопы искр вспыхнули там, в зеркале.
Она зажмурилась.
– Ну давайте же снова читать! – сказала Александра Егоровна. – Девочки, погодите, тут вазами не обойдешься, ведра нужны. Подождем, Савелий Петрович сказал, что еще принесет цветов. Потом все расставим сразу. Главное, розы вместе с тюльпанами не совать, они друг дружку не любят. Слушайте, я дочитаю рецензию. – И она своим хорошо поставленным голосом – не зря двадцать лет прослужила на сцене Большого Императорского театра! – с выражением продолжила: – «Красота безотчетливая нас сильно поразить бы не могла, но такая пластически прекрасная наружность поистине встречается очень редко. В отношении к ее таланту скажем: есть предметы, которые с первого на них взгляда поселяют в себе доверенность. Это мы говорим к тому, что она не могла изобличить всех своих способностей по причине бедности ролей, ею представленных. Они не могли дать пищи таланту, но при всем том она их разыграла превосходно, сделав их занимательными… Но что более всего заставляет брать в ней участие и говорить об ее достоинстве, это то эгоистическое чувство, которое она пробудила и оставила в нас, непринужденность, счастливое изменение голоса и лица, благородство, приемы, свойственные женщинам высшего круга, обещают нам в ней комическую актрису в строгом значении слова… позволим себе небольшое замечание: орга ́н[12] девицы Асенковой звучен и приятен, но грудь ее, вероятно, по молодости, еще слаба. Желательно, чтобы она поберегла себя».