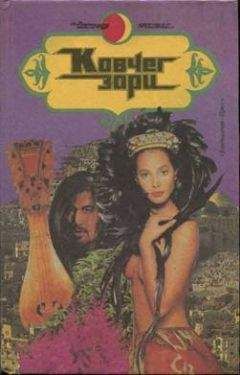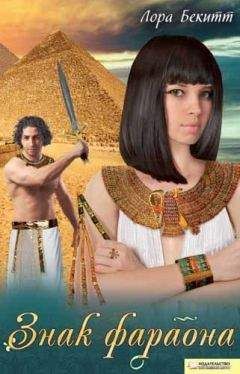Якоб Ланг - Наложница фараона
Андреас сидел на постели.
— Посланные ждут, — шептал отец, низко наклоняясь к нему, отец уже немного успокоился. И Андреас казался отцу спокойным. — Посланные ждут за дверью, внизу, — сказал отец. — Видно, вчера тебя приметил… — отец на миг поднял глаза к потолочным балкам, не решаясь назвать фараона. — Поведут тебя на торжественное жертвоприношение священного быка. Ты будешь там, в большом храме…
Андреас быстро поднялся, отец подал ему воду в глиняной миске — умыться. Быстро умылся и оделся Андреас. Вместе с отцом спустился вниз.
Молчаливые рослые посланцы ждали на улице перед дверью. Андреас знал, кем они посланы. Смуглые тела их, смазанные обильно оливковым маслом, блестели разлитым сверканием рассеянных по гладкой коже ломких искр. Наконечники длинных копий сверкали открытым ужасом торжествующей смерти. Андреас обнял отца и быстро подошел к посланцам со словами:
— Я готов!
Они разом повернулись, окружили его прямоугольно. И он пошел вперед легко, а они шли, прямые копьеносцы, окружая его. Быстро уходила тень утренней прохлады и уже делалось жарко. Сначала они все шли, ступая по земле; затем спутники Андреаса ускорили шаг, и Андреас пошел быстрее. Улицы были пусты. Ступни Андреаса легко оторвались от земли твердой утоптанной, и шел он теперь легко по воздуху чуть над землей; и спутники его шли так же, и ноги их, большие, сильные и смуглые, вытягивались, сгибались и разгибались, словно были ногами деревянных больших движущихся фигур.
Так прошли они все огромную площадь пустую и вступили на каменную террасу, замощенную огромными плитами. Свистящий ветер задувал дико и горделиво. Спутники Андреаса внезапно исчезли, словно их и вовсе не было. Но он словно бы и не удивился этому. Он пошел дальше один. Шел легко и решительно, теперь ступая крепко ступнями на камни.
Огромное чудовище лежало на каменном ложе. Андреас увидел лицо чудовища — длинные глаза с этими круглыми зрачками и выпуклые губы, медленно разомкнутые в окаменении жадности. Ему тоскливо почудилось, будто он знает это лицо всегда; оно всегда мучило его уже одним тем, что оно существовало; уже этим одним оно было враждебно ему; оно хотело подчинить его каким-то своим законам и закономерностям, согнуть, сломать его оно хотело; оно презирало его и топтало его, и торжествовало победу в этой грубой, вещной и плотской жизни, где оно объявило его непокорность достойной презрения чудаческой причудой…
И у этой женской головы было туловище пса и вытянутые с этой спокойной беспощадностью вперед огромные львиные лапы…
И за спиной огромного каменного чудовища высились огромные, высокие, плотно-округлые каменные колонны храма, будто замерли каменно и навеки встали огромные слоны, более не желая ступать.
«Здесь поклоняются животным. Животные здесь — божества», подумал Андреас.
Он увидел огромный портал и арки — все ярко-синее, отороченное оранжево-белыми узорными гирляндами, изображающими переплетения цветов на стеблях, и хищно направленных вперед в этой резкой веренице, проворно вытянувших лапы желтых львов с этими разверстыми хищно пастями.
Андреас прошел под аркой и вступил в зал. И здесь было тихо и пусто. Но казалось тесно от стенной росписи. Глядели с белых стен многие желто-коричневые фигуры сидящих и стройно-вытянуто стоящих женщин, четко были очерчены желто-коричневые круги; многие изогнутые знаки испещряли белизну; черно-коричневые большие змеи с раздутыми шеями застыли в продольных извивах крупных под потолком; и птицы хищные распростирали над проемами дверными широкие узорные крупно-перистые изогнутые крылья.
Андреас прошел через этот зал бесстрашно. Он ничего не боялся, потому что ждал всего самого страшного. В конце перехода увиделось жаркое яркое сине-голубое небо. Он вышел снова на каменную площадку, уже другую. Там она стояла страшная своей красотой хищной и открытой, открыто разукрашенной золотом и серебром и драгоценными камнями и притираниями и красками и тканями легкими, почти обнажающими ее хищное женское тело. Но голова ее вдруг сделалась плотской, тупой, упорно глядящей головой молочного животного. Женщина-корова — одна — в двойном теле; божество людей, плотски утоляющих себя и множащихся; божество людей, женщина-корова — небо — земля — Млечный путь — женщина с младенцем от мужчины. Жрица богини. Богиня… «Великая достойнейшая»… НАЛОЖНИЦА ФАРАОНА!..
Она занесла над головой Андреаса; прямо стоя, вскинула обеими руками, острый, сверкающий, золоченый топор-секиру. Было страшно жарко. Кровь билась в висках юноши, билось в затылке больно и остро, переносица горела плавящимся огнем. И тело преображалось, каким-то мощным делалось и в этой мощи своей делалось неуклюжим, неуклюже-мощно направленным лишь вперед. И голова вытягивалась. И мучительно недоставало… недоставало… Глаза глядели прямо… Рук, рук не было у него теперь! Он закричал. Но это был мощный животный голос…
Он был священным быком и пришел на жертвоприношение…
И ему не было спасения, потому что этот мир был ее. Это все было ее бытие.
И можно было спастись, только вырвавшись из ее бытия, из ее мира. И Андреас отчаянно воззвал, напрягая живые еще частицы своего человеческого существа; к Большому Богу воззвал, к Богу без телесного начала. Бог этот был — жестокость. Но не жестокость женщины и зверя, а жестокость человеческой бестелесности. А Дева-мать с жертвенным Младенцем, которого она, чуть приподымая на руках, доверчиво протягивала миру, была жалость. Там путь Андреаса был отказ от плоти, от всего того, что тело…
И топор-секира, острый, сверкающий, золоченный, очутился в его поднятых руках. Он снова был человеком, каждую частицу своего человеческого существа ощущал ясно, явственно, почти с наслаждением. Она упала на колени, словно огромная красивая змея изогнулась внезапно. Лицо она пригнула низко в ладони; и волосы закинулись черной гривой; и шея открылась сзади, такая внезапно нежная и беззащитная.
И Андреас отрубил ей голову.
Радость чресл радостной судорогой охватила все его существо, снизу вскинулась и охватила… Всего его охватила… И вспомнилось четко и смутно: вот чего она лишила его, неведомо когда… вот этого — мужской радости чресл от завершенного наслаждения телесного с женщиной…
Она была девочка, тоненькая, в легком узком желтом платье, «отроковица» говорят… И сейчас она выбежала неведомо откуда легкими шажками босых ступней из-под этого желтого тонкого подола… И черные косички — много — частью закинулись на грудь. И глаза детски смеялись. А тело женщины лежало на скрещении каменных плит, обезглавленное. Но она, девочка, она и была эта женщина. И голову женщины красивую она несла на золотом блюде чеканном, вытянув вперед свои тонкие, детские еще, и нежные руки. Это было странное жестокое зрелище, но оно было красивое, даже зачаровывало как-то. И Андреас невольно смотрел и даже чуть подался вперед. А топор-секира упал из его рук звонко на камни, но Андреас как бы и не заметил этого. И вдруг он увидел, что голова на блюде — его. Нет, она не переменилась, он просто вгляделся и увидел. Не было текущей крови, это была его голова, его черты. Но лицо было мертвое, тяжелые плотные веки прикрыли глаза и смутная зеленоватая гнилость боковым пятнышком проступила на округлом его лбу. И он ужаснулся смутно и прижал ладони к лицу. И тотчас засмеялся, и это было странно. Но он теперь знал, что он вправе совершать странное. Он смеялся и ему было радостно, ведь он не был обезглавлен. И он снова бросил взгляд на блюдо. Нет, это была ее голова. Красивая женская голова. Но лицо побледнело. И девочка протягивала эту голову ему на блюде и смеялась диковато-озорно-женски. И он вдруг не мог отвести глаз от этой головы. А голова медленно-округло приоткрыла бледные губы и проговорила тихим, чуть с присвистом глухим и таинственным, слабым посмертным голосом; проговорила: