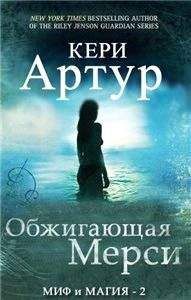Эжени Прайс - Свет молодого месяца
— Ты неправильно говоришь, сын. Не «хорош», а «хорошо запряжен». — Так как дождь еще продолжался, она набросила тряпичный коврик на самодельную постель, отошла назад и послала воздушный поцелуй Хорейсу.
— Хорошо, — сказала она, улыбаясь ему. — Поезжай как можно быстрее. Хорошо бы, если ты сегодня успеешь доехать до него. Пусть папа отдохнет ночью, и завтра отправляйтесь рано. И, мой милый, да хранит тебя Бог.
Дебора сумела провести долгие часы этой бессонной ночи, разговаривая с Богом.
— Боже, если этот мул не споткнулся, не упал, если фургон все еще движется, не думаешь ли Ты, что они могут вернуться до захода солнца? Позаботиться о них, Боже, чтобы мул шел, и фургон двигался. Охраняй моего мужа и моего сына.
Дождь ночью прекратился, и когда первый свет начал пробиваться сквозь тучи, уходящие к востоку, она призналась себе, что сегодня не в состоянии быть с детьми. Джейн может присмотреть за ними. Она быстро оделась, набросила на плечи поношенный плащ, оставила записку и, открывая калитку, надела капор. Если она пойдет навстречу им, она раньше все узнает.
Так как было гораздо легче идти по густым сосновым иголкам вдоль края ухабистой, грязной дороги, она все утро придерживалась края леса, не теряя дорогу из виду. Ее ноги покрылись водяными пузырями и кровоточащими ранками еще до полудня, но она отдыхала только когда не могла идти дальше. Сначала она пыталась определять голоса птиц, но был октябрь, и птицы пели мало. День становился жарче, в лесах было все тише, и целыми часами она никого не встречала. Большая гремучая змея, растянувшаяся на солнце, заставила ее отойти от дороги, но она не замедлила своих шагов; на расстоянии нескольких ярдов от нее сквозь заросли с шумом выскочил олень; опять стало тихо, и к ней вернулись силы идти дальше — медленнее, часто спотыкаясь, но все же она шла. «Не дай мне наступить на сосновую шишку, Боже. Я не должна вывихнуть лодыжку. Нельзя это сейчас».
Она пожевала лавровые листья, а когда подошла к небольшому чистому ручейку, встала на колени чтобы набрать воды. Все еще стоя на коленях на песчаном берегу ручья, с мокрым подбородком, она услышала громыхание телеги или фургона — очень далекое, но ясное. «Не беги, — приказала она себе, с трудом поднимаясь на ноги. — Не беги, Дебора Гульд, — иди. Если ты побежишь, ты можешь потерять сознание, а это только встревожило бы его».
Один осторожный шаг за другим, и еще, и еще, не обращая внимания на свои кровоточащие ноги, не сводя глаз с дороги, она тащилась вперед и, наконец, показался старый мул и она увидела сына, сидевшего на козлах. Не в силах сдержаться, она побежала, несмотря на предостерегающие крики юного Хорейса, продолжала бежать, пока не смогла уцепиться за непрочную стенку старого скрипучего фургона и держаться изо всех сил. Не может быть, что худая, изможденная фигура, лежащая молча на самодельной постели, — это ее муж! Она отступила на шаг, глядя сначала на сына, потом на ввалившиеся, закрытые глаза больного.
— Он очень плох, мама. Я не знал, чем ему помочь. Я просто ехал дальше.
Она снова медленно приблизилась к фургону и положила руку на голову мужа.
— Мистер Гульд, дорогой! Мистер Гульд, дорогой!
— Он умер, мама? Мама! Папа умер?
Она увидела легкое движение век, он пытался открыть глаза, и сорвала свой капор, чтобы защитить его от солнца.
— Нет, милый, он не умер.
— Дебора? — Его шепот был едва слышен.
— Да, мой дорогой, это Дебора.
Его голова качнулась в сторону, и он опять потерял сознание.
Глава XLVIII
Впоследствии она совершенно не могла вспомнить, спала ли она в этот первый месяц, но наконец настал день, когда Дебора поняла, что ей удалось вернуть его к жизни. Вскоре он смог гулять с ней в лесах вокруг дома в Бернейвилле. Но он изменился.
— У меня даже нет удовлетворения от сознания, что меня ранили в бою, — ворчал он. — Просто случилось так, что я оказался удобной движущейся мишенью для какого-то янки, упражнявшегося в стрельбе из пистолета.
Деборе пришлось привыкать к тому, что он больше не шутил, даже с детьми. Она справилась с гангреной в ране; она должна как-нибудь преодолеть негодование, которое, как она чувствовала, росло у него в душе.
— Это более, чем негодование, — сказал он. — Разве ты не понимаешь, что я развиваю в себе ненависть? Мне было очень тяжело, Дебора, когда приходилось убивать янки, но раз они продолжают бойню после того, как уже одержали верх, мне надо уметь ненавидеть, чтобы продолжать тоже.
— Нет, пока ты здесь с нами, не надо. Сейчас время отдохнуть и успокоиться. Пусть Бог тебе подскажет, что надо делать. Ты слишком еще слаб, чтобы знать. Сейчас, мой любимый, будем благодарны, будем радоваться. Ты еще слаб, но поправляешься. Это единственно важное.
Он тяжело опустился на упавший ствол.
— Да, я поправляюсь, и мне приказано явиться к моей части в Саванне, как только я буду в состоянии. — Он закрыл лицо руками. — Я уже в состоянии, насколько это вообще возможно для меня.
— Мистер Гульд, дорогой, за все годы, что я была твоей женой, я ни разу не позволила себе открыто противоречить тебе, а сейчас я возражаю. Ты еще недостаточно физически силен, чтобы вернуться в армию.
— Мое физическое состояние гораздо лучше, чем моральное. В противоположность остальной благородной армии Конфедератов, я понимаю, что мы потерпели поражение. Немного пользы им будет от того, что их капитан вернется, но я возвращаюсь.
Он вернулся в свою часть в Саванне в самое время, чтобы выполнить приказ об эвакуации города прежде чем Шерман его займет; он успел, вместе с последней беспорядочной группой Конфедератов, промчаться по понтонному мосту за несколько минут до того, как тот был взорван. И во время бегства ему стало так страшно, как никогда ранее. Он боялся не смерти, а жизни.
«27 декабря 1864 года.
Бивуак близ Саванны
Моя Дебора!
Физически я чувствую себя нормально, но морально более подавлен, чем даже во время безумия. Мы только что видели такое, что считается газетой, и я списал короткое сообщение о праздновании в Саванне дня рождения твоего Бога, Иисуса Христа.
«Его Превосходительству Президенту Линкольну.
Разрешите преподнести Вам в качестве рождественского подарка город Саванну и полторы сотни тяжелых орудий, и очень много боеприпасов, а также двадцать пять тысяч тюков хлопка.
Шерман, генерал-майор».
Наш конец близок. Я слышал, что на Сент-Саймонсе большие разрушения. Я знаю, что ты ожидаешь ребенка, моя Дебора, но даже если меня скоро демобилизуют, то в том душевном состоянии, в каком я нахожусь, я не могу вернуться к тебе, пока каким-нибудь образом не вернусь на остров, чтобы своими глазами увидеть, что они сделали с нашим домом. Не проси меня приехать, мне придется отказать тебе. Сколько времени еще мне придется просидеть в этой вонючей дыре, которую армия Конфедератов называет бивуаком, я не знаю. Весной я буду иметь возможность, если надо, вплавь добраться до Сент-Саймонса. Я только знаю, что не могу успокоиться или собрать воедино отрезки моей жизни, пока там не побываю, — один. Когда будешь писать Мэри, будь добра сообщить ей. Я не научился ненавидеть, и теперь поздно пытаться. У меня только в душе пусто и мне страшно, и я слишком стар, чтобы обманывать себя надеждами на то, что у нас есть что-то впереди, кроме безысходности. Единственная моя надежда — на поездку на остров. Один раз я там нашел себя; может быть, так будет опять. Мне сейчас не следует быть с теми, кто меня любит. Я вернусь к тебе, когда выясню насчет Блэк-Бэнкса.