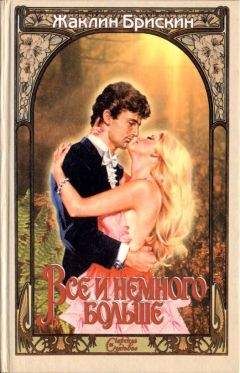Жаклин Брискин - Обитель любви
Воробушек метнулся к железной ограде, но тут же развернулся, словно почуяв впереди смерть. Три-Вэ вздохнул. «Только Бад подошел к их карете», — подумал он.
Для Три-Вэ поступок Бада был просто уничтожающим. Чувство одностороннего соперничества с братом вспыхнуло с неслыханной силой, прежде ему неведомой. Он всегда любил Бада — по крайней мере так ему казалось, — восхищался им и горько обижался на него. Бад жестоко дразнил брата, и Три-Вэ неизменно попадался на его удочку. Бад был популярен. Бад был человеком действия. Бад никогда не копался в собственной душе так глупо и тщетно. Весь Лос-Анджелес уважал Бада за его деловое чутье, за охотничью сметку и за его изящество, с которым он кружился по навощенным танцплощадкам города. В трудную минуту Бад всегда защищал Три-Вэ. До сих пор Бад всегда становился между младшим братом и отцом, когда у того было скверное настроение. Бад был тем тяжким крестом, который приходилось нести по жизни его младшему брату. Бад защищал Три-Вэ, но и дразнил его. Поступки Бада было невозможно предугадать.
То, что Бад сделал сегодня на похоронах, показало Три-Вэ ясно, как никогда, его собственные слабости. Его не могла утешить мысль о том, что во всем городе не нашлось никого, кому хватило бы мужества и порядочности преодолеть несколько ярдов до кареты Динов. Это сделал только Бад.
Три-Вэ заплакал. Отрывистые, хриплые рыдания были полны отчаяния. Она рыдал над своей беспомощностью и трусостью. Приложившись щекой к подоконнику, на котором скрипел песок, он до боли вдавил в него скулу, чтобы этим хоть немного отвлечься от боли душевной.
7Поскольку это был последний вечер Три-Вэ дома, донья Эсперанца затеяла особенный ужин. Три-Вэ слышал, как отец и Бад вернулись домой из магазина. Но он не спустился к ним, а остался лежать в постели в своей комнате.
Около семи в его дверь постучали. Раздался голос Бада:
— Это я, малыш.
— Я не голоден.
— В таком случае побыстрее нагуливай аппетит, потому что ужин подадут через десять минут.
— Скажи что-нибудь маме за меня.
— Ты сам ей скажешь все, что захочешь, когда спустишься к столу. — Бад говорил веселым тоном. — Тут тебе записка от соседской девчонки.
Три-Вэ сел на кровати.
— Черт возьми, между прочим, у нее есть имя!
— Какое? Бэби?
— Амелия Дин! — чувствуя комок в горле, проговорил Три-Вэ.
Бад просунул записку под дверь.
Конверта не было. Листок бумаги с рельефным оттиском герба Ламбалей был просто сложен вдвое. Три-Вэ развернул и прочитал записку, состоявшую всего из двух строчек:
Спасибо, что пришел.
Мама разрешила писать тебе в Гарвард.
8Три-Вэ сидел на кровати и думал, что сейчас снова заплачет, но слез не было. Он чувствовал себя по-прежнему несчастным, но, проведя указательным пальцем по рельефному оттиску герба на бумаге, отчасти утешился. «Она хочет писать мне», — подумал он и прижал записку к груди, поражаясь душевной красоте девушки, которой всего пятнадцать лет, но которая сумела в самый черный день своей жизни найти для него слова прощения. И тогда ему пришло в голову слово «любовь». «Я люблю ее, — подумал он, и эта мысль не показалась ему глупой. — Как жаль, что она еще недостаточно взрослая, чтобы можно было сказать ей об этом».
Вздохнув, он прошел в просторную квадратную ванную комнату, плеснул воды на лицо, смочил и расчесал густые темные волосы. Вернувшись в спальню, он надел воротничок, завязал галстук, застегнул жилетку и надел пиджак. После этого он спустился вниз.
Донья Эсперанца разливала по чашкам наваристый дымящийся куриный суп. Потом племянница Марии обнесла стол блюдом с тушеным цыпленком, кулебякой, посыпанной сверху оливками, миской с голубцами из кукурузных листьев, картофельным пюре, луком в сливочном соусе, горохом, свежими маисовыми лепешками и сухим печеньем. На столе стояли еще стеклянные блюда со свекольным салатом, подливкой и колбасой. На десерт был подан пирог-помадка со взбитыми сливками. Кулебяка и голубцы были любимыми блюдами Три-Вэ и придавали ужину праздничный вид. В остальном это был самый обычный ужин. Обед — даже в такую жару — был еще плотнее, ибо включал в себя еще тарелку с холодным окороком, колбасой и тонкими кружевными ломтиками болонской ветчины. Хендрик, как и всякий другой здешний супруг, более легкие трапезы воспринял бы как свидетельство того, что жена абсолютно не ценит его благополучия.
Три-Вэ почти не ел. Он вяло поковырял пищу с нескольких тарелок. Все время молчал, сочиняя в уме письма, которые он напишет Амелии.
Перед тем, как ему пойти спать, донья Эсперанца спросила серьезно:
— Ты готов?
В глазах у нее была тревога.
— Да, мама, я готов.
Ночью, как всегда, жара спала. В открытое окно вливалась прохлада, слышалось трещанье цикад. Три-Вэ долго лежал без сна, думая об Амелии. «Как только ей исполнится шестнадцать, я смогу сказать ей, что люблю ее», — думал он, засыпая.
На следующее утро солнце вновь безжалостно опалило город. Это действовало угнетающе. Три-Вэ, надев новый костюм, снова обливался потом. В пульмановском вагоне Южно-Тихоокеанской железной дороги он покинул Лос-Анджелес.
Глава вторая
На следующей неделе после отъезда Три-Вэ во время ужина раздался стук в дверь. Мария жарила на десерт оладьи с яблоками, а ее племянница мыла посуду. Бад бросил на стол салфетку и пошел открывать. Соседи и друзья частенько наведывались в это время, чтобы пригласить Ван Влитов куда-нибудь вместе провести вечер. Два года назад в Лос-Анджелес провели телефон, но пока что во всем городе установили только девяносто один аппарат. Большинство людей, включая и Хендрика, считали, что это устройство ухудшает слух. На пороге стоял черный слуга Динов. Он протянул записку, адресованную мистеру Хендрику Ван Влиту. Бад взял записку, отнес ее к столу. Хендрик вскрыл ее ножом для фруктов.
Прошу Вас уделить мне один час вашего времени сегодня вечером, чтобы помочь разобраться в делах мужа.
Это была записка от мадам Дин.
Хендрик кашлянул. От жары не осталось и следа. Каждую ночь город окутывал плотный туман. Хендрик как раз лечил больное горло. Он снова кашлянул.
Донья Эсперанца встревоженно взглянула на мужа.
Бад сказал:
— Хочешь, пап, я схожу?
Хендрик втайне обрадовался тому, что нашел предлог не посещать берлогу врага. Он передал украшенную гербом записку сыну со словами:
— В конце концов ты тоже Хендрик Ван Влит.
Позже, когда Бад поправлял галстук перед восьмиугольным зеркалом в холле, рядом с вешалкой для шляп, его большой веселый рот кривился в чувственной усмешке. Он думал сейчас о слабости всех француженок, которой они славятся.