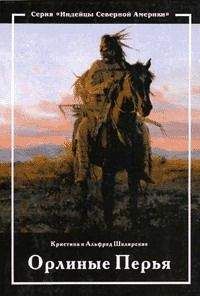Франсуа Шатобриан - Атала
Если бы голубая сойка с берегов Месшасебе спросила у вьюрка из Флориды: „На что ты так жалостно сетуешь? Разве нет у тебя здесь кристальной воды, и прохладной тени, и пищи, изобильной, как в лесах твоей родины?“ — „Да, — ответил бы залетный вьюрок, — но гнездо мое было в жасминовом кусте; кто вернет его мне? И разве это солнце сравнится с солнцем моей саванны?“
Блажен, кто никогда не созерцал дыма праздничных костров на чужбине, кто сидел на пиршествах лишь среди своих соплеменников.
Странник устал после долгого пути, в печали он садится отдохнуть. Вкруг него кровли людских жилищ, но ему негде преклонить голову. Странник стучится в дверь хижины, он оставляет за порогом свой лук, он просит приюта. Хозяин делает знак рукой, странник забирает лук и возвращается в пустыню.
Блажен, кто никогда не созерцал дыма праздничных костров на чужбине, кто сидел на пиршествах лишь среди своих соплеменников.
Чудесные истории, рассказанные у семейного очага, сердечные излияния, согретые нежностью, привязанности всей жизни, без которых ее и не представишь, вы до краев наполняли дни и ночи тех, кто никогда не покидал родной стороны. Они покоятся в отчей земле, с ними неразлучны лучи заходящего солнца, слезы друзей, благостыня веры!
Блажен, кто никогда не созерцал дыма праздничных костров на чужбине, кто сидел на пиршествах лишь среди своих соплеменников!»
Так пела Атала. Стояла полная тишина, только волны еле слышно плескались, расступаясь перед нашим каноэ. Порою слабое эхо вторило ее жалобам, ему откликалось другое третье, с каждым разом все более слабое; мнилось, души любовников, некогда столь же несчастных, как мы, привлеченные трогательным напевом, услаждались, подхватывая слова и шепотом передавая их от горы к горе.
Меж тем безлюдье, и всегдашняя близость того, кого любишь, и даже невзгоды с каждым днем все больше разжигали нашу любовь. Атала уже почти не сопротивлялась мне, страсть, одолевая плоть, брала верх над добродетелью. То и дело взывая к своей матери, она словно пыталась умиротворить ее разгневанную тень. Случалось, Атала спрашивала меня, не слышу ли я горестного голоса, не вижу ли языков пламени, вырывающихся из-под земли? А я, хотя изнемогал от усталости, по-прежнему страстно ее желал и, думая о том, что, быть может, сгину в этих бескрайних лесах, сто раз на дню готов был сжать в объятиях свою избранницу, сто раз на дню предлагал ей построить хижину на берегу реки и там, вдали от всего мира, поселиться вдвоем. Но она не сдавалась. «Неужели ты забыл, — говорила она, — что жизнь воина принадлежит его отчизне? Много ли значит женщина в сравнении с долгом, который ты обязан исполнить? Будь стойким, сын Уталисси, не ропщи на судьбу. Сердце мужчины подобно речной губке: в безветрие она впитывает прозрачную струю, а когда небо насылает непогоду, она разбухает от тинистой влаги. Но смеет ли губка говорить: „А я-то была уверена, что грозы меня минуют, что я не изведаю палящего зноя?“»
О Рене, если тебя страшат сердечные треволнения, беги одиночества: сильные страсти крепнут в уединении, остаться с ними с глазу на глаз значит сделаться их рабом. Нам, измученным заботами и страхом; живущим под вечной угрозой, что нас возьмут в плен враги, или поглотит водная пучина, или ужалит ядовитая змея, или растерзает дикий зверь; с трудом находящим себе пропитание и не ведающим, куда направить путь, — нам казалось, что чаша бед уже полна, но тут случилось нечто, и впрямь ее переполнившее.
Солнце уже двадцать семь раз всходило на небо, с тех пор как мы бежали из индейского поселения; наступила огненная луна[15], и все предвещало грозу. В час, когда индианки вешают мотыгу на ветвь можжевельника, а попугайчики прячутся в дупла кипарисов, небо начало заволакиваться тучами. Голоса девственного края умолкли, пустыня онемела, лес застыл в недвижности. Но вот до нас донесся далекий раскат грома; отдаваясь в этих лесах, столь же древних, как мир, он наполнил их рокочущим грохотом. Испугавшись, что утонем, захлестнутые ливнем, мы поспешили выбраться на берег и укрыться под деревьями.
Почва кругом была топкая. Мы с трудом продирались сквозь путаницу сассапариля, дикого винограда, индиго, вьющейся фасоли, ползучих лиан, которые свисали с ветвей и, точно сетями, опутывали ноги. Напитанная влагой земля зыбилась при каждом шаге, трясина грозила затянуть с головой. Несчетные рои мошкары и огромные летучие мыши слепили глаза, со всех сторон неслось шуршание гремучих змей, рык волков и пум, ворчание медведей и барсуков, нашедших, как и мы, убежище в этих дебрях.
Тьма все сгущалась, тучи опустились до самых древесных крон. И вот из них, словно огненная ящерица, выскальзывает молния. Буйный западный ветер громоздит и гонит тучи, деревья гнутся, небо то и дело разверзается, открывая в прорывах пылающие бездны. Какое ужасное, какое величавое зрелище! Молния поджигает лес, широко раскидывается грива пожара, столбы искр и дыма взметаются к тучам, а те продолжают выплевывать молнии на горящие леса. И тогда — Верховное Существо погружает горы в беспросветный мрак; из недр этого неоглядного хаоса вырывается оглушительный рев — в нем слиты завывания ветра, стоны деревьев, рычание диких зверей, треск пожара, почти непрерывные удары грома, который как бы захлебывается потоками воды.
Бог свидетель, что в эти мгновения я видел только Атала, только о ней и думал! Мне удалось укрыть ее от ливня под склоненным стволом березы. Я держал возлюбленную на коленях, грел в руках её босые ноги, я был счастливее, чем юная жена, у которой под грудью впервые шевельнулся плод любви.
Мы прислушивались к грохотанию бури, и вдруг я почувствовал, что на грудь мне упала слеза Атала. «Гроза сердца, не твой ли дождь уронил на меня эту каплю? — воскликнул я. Крепко обняв ее, я продолжал: — Атала, ты все время о чем-то умалчиваешь. Откройся мне, моя краса, нет ничего целительнее, чем настежь распахнуть сердце перед другом. Поведай тайную свою скорбь, зачем так упорно прятать ее в себе? Но я догадываюсь: ты тоскуешь по родному краю». — «Несмышленый юноша, — возразила она, — с чего бы я стала тосковать по стране пальм, если не оттуда родом мой отец?» — «Как! — удивился я. — Откуда же родом тот, кто дал тебе жизнь?» И вот что поведала мне Атала.
«До того, как моя мать принесла в приданое воину Симагану тридцать коней, двадцать буйволов, сто мер желудевого масла, пятьдесят бобровых шкур и еще много всякого добра, она познала бледнолицего человека. И тогда мать моей матери брызнула ей в лицо водой и принудила пойти за благородного Симагана, могуществом своим подобного королю и почитаемого народом, как божество. Но моя мать сказала своему супругу: „Лоно мое зачало. Убей меня“. — „Да хранит меня Верховное Существо от такого недоброго дела! — ответил ей Симаган. — Я не изувечу тебя, не отрежу ни носа, ни ушей, ибо ты была прямодушна и не запятнала моего ложа, но войду к тебе по истечении тринадцатой луны, когда птенец уже выпорхнет из гнезда“. Покинув утробу матери, я стала быстро расти, и в крови моей была гордость испанки, равно как индианки. Мать крестила меня, дабы ее Бог и Бог моего отца стал моим Богом. Потом любовная тоска взяла верх над ней, и она сошла в то тесное обиталище под землей, откуда никто никогда еще не возвращался».