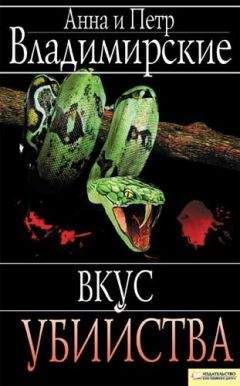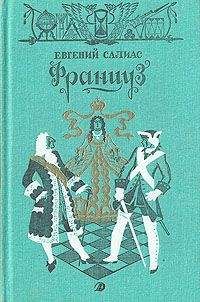Евгений Салиас - Владимирские Мономахи
И, отправив удивленную Угрюмову, Сусанна начала шагать по своим комнатам взад и вперед, как бы не находя себе места.
Когда Угрюмова вернулась и доложила, что Гончему понесли в посуде похлебки, кусок пирога и захватили даже бутылку квасу, вдруг вымолвила резко, сумрачно:
— Анна Фавстовна, хотите мне услужить?
— Господь с вами! — удивилась женщина не словам, а чудному голосу своей барышни. — Приказывайте, что ни на есть, — все исполню: хоть в Киев пешком пойду.
— Подите к нему, поглядите и придите мне сказать.
— Куда?.. — не поняла Угрюмова.
— Подите к столбу…
— К Гончему?
— Да. Поглядите и скажите мне, что он…
— Извольте… — изумляясь, ответила Угрюмова.
— Поглядите: злобен он… как смотрит, говорит… или не злобен… только обижен, пристыжен?.. Или весел, наконец? Я его знаю! С него всего станется… он не Дмитрий Андреевич или эти… все… балабаны[24]!
И последние слова она выговорила с насмешливым презрением. «Балабаны» всегда говорил покойник Аникита Ильич, и она знала только, что это почему-то насмешливое прозвище, презрительное.
Через полчаса Угрюмова была уже снова в комнатах, побывав у столба. Она принесла весть, что Гончий «ничего». Она на него долго глядела, но он ее не видел, потому что сидел на земле, опустя голову и глаза.
— Упорствует! — объяснила она… — Все, кто был глядеть, сказывают, ни на кого не глянул ни разу. Может, от злобы, а то и от совести.
Сусанна, сидя в кресле, понурилась.
— Переменился он, Сусанна Юрьевна — выговорила вдруг Угрюмова как-то веселее.
— Что? Как? Как переменился? — встрепенулась она.
— Восемь лет. Шутка ли! А только, простите мое глупое рассуждение… Он и прежде все-таки был из себя казист, а теперь будто и того казистее… Ей-Богу! Такой молодец, каких мало. Вот ей-Богу же!
И только благодаря полутьме в комнате Угрюмова не заметила, каким ярким румянцем вспыхнуло и запылало лицо ее барышни.
Водворилось молчание. Анна Фавстовна боялась продолжать речь на тот же лад, опасаясь гнева барышни. Сусанна Юрьевна молчала, так как новая нежданная мысль поглотила ее…
— Да или нет? — спрашивала она себя. И она решила вслух: — Непременно!
— Что вы это? — спросила Угрюмова.
— Поужинал он, Анна Фавстовна?..
— Виновата… забыла доложить… Нет-с. Отказался наотрез. Засмеялся… сказал: псов де цепных не приличествует кормить ужином. С меня довольно и хлеба с водой.
Сусанна не ответила, подавила в себе вздох и произнесла мысленно:
«Непременно!»
XI
Наступила ночь, было уже часов десять… Погода хмурилась еще с сумерек, и к ночи густые облака нависли кругом из края в край. На небосклоне вспыхивал отблеск дальней грозы. Изредка доносился едва слышный глухой гул дальних раскатов грома.
Сусанна Юрьевна страшно волновалась, бродя в своих комнатах, ходила из угла в угол, вдруг садилась и тотчас же поднималась и снова шагала или сновала, переходя из одной комнаты в другую. Она часто подходила к отворенным окнам, глядела на небо, глядела на дальние вспышки молнии и каждый раз тяжело вздыхала, как если бы вокруг нее совершалось что-нибудь особой важности.
В десять часов она позвала молоденькую горничную, недавно взятую в услужение, но которую она уже полюбила и отличала от других за смышленость и особенную скромность во всем…
Сусанна Юрьевна позвала девушку Агашу в свою спальню и, не велев никому входить, довольно долго проговорила с ней с глазу на глаз. Затем, надев темное платье, накинув на голову большой черный платок, подвязанный узлом на спине, она вышла и спустилась по винтушке. Агаша, одетая совершенно так же, как и барышня, последовала за ней. Большие черные платки, скрещенные на лице, обратили их в монахинь. Только глаза блестели между складок…
Через минут десять, две женские фигуры вошли в сад и приблизились к столбу, близ которого сидел на траве Гончий. Завидя двух женщин, он сначала не обратил на них никакого внимания, но затем вдруг будто встрепенулся, будто что-то кольнуло его, разбудило от грустного оцепенения, в котором он был.
— Что, Онисим Абрамыч, — заговорила нетвердым голосом маленькая женская фигура, — злобствуешь?.. Кабы мог сейчас бы за нож схватиться и пошел резать…
Гончий молча присмотрелся, внимательно, упорно будто насилуя себя угадать что-то… Но он глядел не на маленькую женщину, с ним заговорившую, а на другую высокую… Затем он вздохнул глубоко и отвернулся… Чуткое сердце подсказало верно, а разум нечуткий, слепой обманул его…
«Разве пойдет она так сюда? И зачем?!» — решил разум.
И сердце смолкло, покорилось и заныло.
Но маленькая женщина снова заговорила уже крикливо, будто подбадривая себя:
— Небось для тебя барышня ныне хуже ведьмы… а сказывают люди, ты ее страсть как боготворил прежде…
Гончий не выдержал… Эти слова какой-то дворовой женщины, болтавшей зря, среди тьмы ночи, всколыхнули на душе целую бурю.
— Знай я, что Сусанне Юрьевне утешно, что я, как собака, на цепи сижу, — заговорил он со страстью, — то я бы век тут сидел, не жалясь. Только бы приходила она сюда, только бы видать мне ее. А там прикажи она меня хоть на сто частей накромсать, всю кровь выпить, все жилки вытянуть… И я не крикну. Зарезать вот ее — я хоть сейчас. Но за другое… А все же таки… Господь Бог на небеси, да она, барышня, для меня только это и есть на свете… Да, Сусанна Юрьевна! Знала бы ты… знала бы ты!..
Гончий взял себя руками за голову… Цепь громыхнула. Женщина, молчавшая все время, отступила, будто со страху попятилась, быстро двинулась от столба. Говорившая последовала за ней. Обе молча и быстро вернулись к дому и поднялись по винтушке.
— Жалко его, барышня! — робко выговорила Агаша, подымаясь по винтушке. Та не ответила ни слова.
Через час Сусанна Юрьевна уже лежа в постели, горела как в огне. Лицо ее пылало, в висках стучало, дыхание было неровное, тяжелое, лихорадочное.
Она позвала свою наперсницу и, смерив женщину с головы до пят, произнесла:
— Можно на вас, Анна Фавстовна, положиться в важном деле или нельзя? Брось — нельзя. Но все равно. Слушайте! Завтра в шесть часов утра вы прикажете позвать Ильева и прикажете ему, не медля ни минуты, отковать Гончего и сказать ему: «Барышня приказала! Иди на все четыре стороны… куда ветер дует…» Поняли вы? Поняли, что я сказываю?
Голос барышни был настолько суров и строг, что Угрюмова ответила робко:
— Поняла-с.
И всю ночь Сусанна не смыкала глаз, ожидая рассвета и утра, когда ей скажут, что «он» на свободе!..