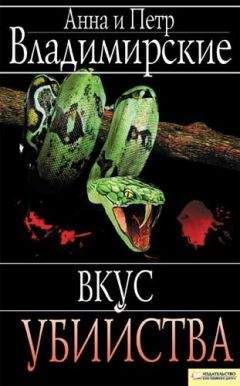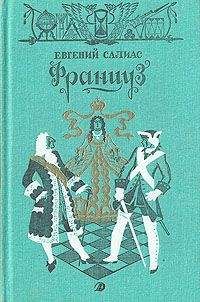Евгений Салиас - Владимирские Мономахи
И в самый полдень все вдруг зашумело, загудело, задвигалось.
Двое рунтов вели через сад Гончего, связанного бечевой по рукам, держа два конца бечевы. Еще две пары рунтов шли впереди и сзади. Гончему еще поутру было объявлено, какое его ждет наказание за содеянное им когда-то преступление, оставшееся без возмездия.
— К цепному псу приравняли, — отозвался он глухо, но спокойно.
И затем через несколько минут он прибавил, уже усмехаясь:
— Доложите-ка вы барину вашему, чтобы указал меня заморить на цепи. А коли спустят, или я сам сорвусь, то многих перекусаю, начав с него, с первого.
Теперь, идя с рунтами на место позорища, Анька был бледен и шел, опустив глаза. Вся толпа при его появлении смолкла… Уж будучи около столба, Анька удивился царящему молчанию и быстро окинул глазами всех толпящихся… Никто не ухмылялся, враждебных взглядов тоже не было. Все смотрели на него странно — и если не прямо сочувственно, то сурово негодуя.
— Вон что ваш молодой барин творит, — презрительно произнес Гончий, обращаясь ко всем.
— Это не он! Барышня! — крикнул робкий голос из задних рядов.
— Люби кататься, люби и саночки возить, — раздался другой голос громкий, веселый, довольный.
Это был князь Давыд, подходивший к столбу.
— Пришел я тебе да и всем сказать, Онисим, — продолжал князь, — что эта затея измышлена Сусанной Юрьевной. Ей спасибо скажи. А Дмитрий Андреевич такового не оправдывает. И ты на него не злобствуй.
Рунты взяли Гончего за правую руку и надели ему железный наручник около кисти руки и замкнули…
Между тем в верхнем этаже, в маленькой комнате у окна, выходившего в сад, стояла Сусанна, несколько отступя, чтобы не быть видимой извне. Это была спальня Угрюмовой и единственная комната, выходящая к стороне сада. Сусанна смотрела сурово… Народ, толпившийся вокруг столба в сотне сажен от нее, даже издали казался сильно взволнованным. Не было гула и гуденья от бойкого или веселого говора. Когда она увидела идущего Гончего — в первый раз после восьми лет — сердце дрогнуло в ней, она вся обратилась в зрение…
Анька казался не старее, а будто моложе… только черная бородка клином и курчавые усы казались гуще и чернее… Выступая с руками, скрученными за спиной, он шел, выпятив грудь, будто важно шагал твердым и мерным шагом. И даже теперь, здесь, среди всех других он был, как сказывается, «отметным соболем».
Сусанна провела рукой по лбу, по лицу, что она делала уже второй день постоянно, будто отгоняла тяжелую и все ту же думу. Теперь, в эту минуту, с ней творилось что-то совсем уже непонятное ей…
Какое чувство всплыло в ней вдруг, и совершенно ясно, к этому человеку, которого когда-то она любила и который ее безумно обожал, — она не знала, потому что упрямо не хотела его назвать по имени… А между тем что-то непонятное заставляет ее, приказывает ей, вопреки сердцу, даже разуму, поступать враждебно к этому человеку, злобно, дико… и бессмысленно. Да, бессмысленно! Ведь ей не хотелось бы делать ему никакого зла… Напротив, ей хотелось бы иное. Что же это в ней? Колдовство?! Да!
Долго стояла у окна она. Толпа, заслонявшая столб и Аньку, поредела, растаяла… Народ разошелся… Но все-таки пока одни уходили, другие приходили поглазеть… И только раз увидела она Гончего у самого столба, сидящего на траве, опустя голову. Цепь висела между ним и столбом…
«Приказать сейчас? — думала Сусанна, спрашивая самое себя. — Приказать? Позвать Ильева и приказать! Сказать: довольно. Для примера было, мол… Власть свою явить. А злобы нет на старое. Уходи, Бог с тобой, но помни… Видели тебя все, как пса сторожевого на цепи».
И, спрашивая себя в сотый раз, она не двигалась от окна и все смотрела, все ждала мгновенья, что кучка народа расступится и она опять увидит его.
Голос Анны Фавстовны заставил Сусанну вздрогнуть, настолько забылась она.
— Барышня! — уже третий раз звала ее Угрюмова.
— Ну, что вам? — резко и гневно отозвалась она.
— Барышня. К вам Ильев… Доложить хочет чтой-то…
— Ильев? — почти обрадовалась она. — Где он…
— Ждет тут в коридоре.
— Зови. Скорее!
Сусанна Юрьевна вышла в свою гостиную и волнуясь ждала, что скажет обер-рунт, за которым она сама собиралась послать.
— Ну, что, Егор Васильевич? — произнесла она быстро, когда молодой человек показался на пороге.
Ильев был видимо смущен и заговорил робко:
— Простите, барышня… не гневайтесь… Уж очень он просит… я на себя и взял. Не гневайтесь.
— Кто? Что? Говорите толком! — вскрикнула Сусанна.
— Я не виноват… как вы изволите… Просить…
— Говорите! Кто?!
— Гончий.
— Что просит? — снова вскрикнула Сусанна.
— Просит разрешить приковать его за левую руку, а не за правую, — вымолвил Ильев, смущаясь и объясняя крик барышни гневом. — Говорит: перекрестить лба нельзя… А оно собственно все одно. Можно и за ногу приковать. Дозволите?
— Так ступайте сейчас к нему, Егор Васильевич, и скажите от меня… — заговорила Сусанна крайне взволнованным голосом, слегка упавшим от внезапного смятения. — Скажите ему, что хотела пример на нем показать… хотела только, чтобы он знал, вспомнил…
И она вдруг смолкла и снова приложила руку к горячему лбу, снова провела рукой по голове и по лицу…
Ильев ждал… Барышня стояла истуканом, глядя в пол, задумавшись и будто даже забыв, что он перед ней…
Прошло несколько мгновений. Она очнулась и вымолвила совершенно другим голосом, спокойным и холодно-строгим:
— Прикажите переменить… Пускай за левую. Все равно…
Ильев вышел, несколько недоумевая, спустился в нижний этаж, вышел в сад и уже приближался к столбу, а Сусанна все еще стояла на том же месте среди своей гостиной и не двигалась, как окаменевшая.
Ее приковал к месту вопрос, который она хотела непременно решить сейчас, не сходя с места.
А решить она не могла.
Наступили сумерки. Сусанна не спустилась к столу, осталась у себя в спальне и сидела теперь без всякого дела, приказав, однако, себя не беспокоить, а если кто спросит, сказать, что она прилегла, чувствуя головную боль.
Заметив вдруг, что уже стемнело, она кликнула Угрюмову и приказала ей тотчас же справиться: когда давали есть Гончему и что ему приносили? Кто? Откуда?
Анна Фавстовна вышла и явилась тотчас же обратно с ответом, что Гончему дали после полудня краюху хлеба и поставили кувшин с водой.
— Прикажите сейчас снести ему людской обед. А если нет, не осталось ничего… прикажите сейчас взять всего, что можно из людского ужина, и сварить, и снести. Не ждать их ужина. Поняли? Сейчас состряпать, что можно, и снести ему… Наблюдите сами…