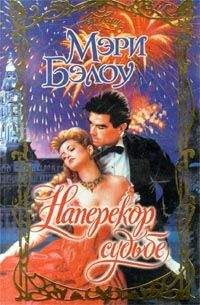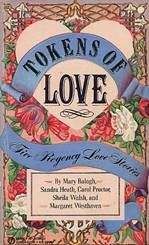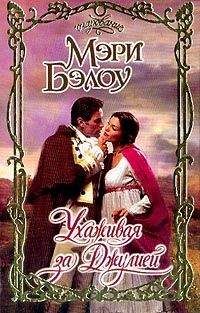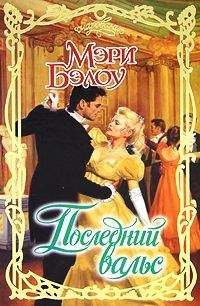Мэри Бэлоу - ПРОСТО ЛЮБОВЬ
День был холодный, пасмурный и довольно ветреный. Землю покрывал ковер из опавших листьев, хотя и на деревьях их оставалось еще достаточно. Энн вошла в павильон и села, а Сиднем остался снаружи, уставившись на покрытые зыбью воды озера.
Он не часто чувствовал себя таким подавленным. Просто не позволял себе этого. Всякий раз, когда его настроение угрожало ухудшиться, он еще больше загружал себя работой. Работа была замечательным противоядием от депрессии. И он не часто предавался жалости к самому себе. Это было утомительно, трусливо и бессмысленно. Сиднем предпочитал думать о том, в чем ему повезло, а этого было немало. Он был жив. Даже это казалось чудом.
Но временами депрессия или жалость к себе, или даже оба этих чувства все-таки охватывали его, в независимости от того, насколько решительно Сид пытался им противостоять. Он боялся таких дней. В эти дни ни работа, ни мысли о хорошем не помогали.
Сегодня был как раз такой случай.
Он все еще ощущал запах красок в голове.
Все еще помнил мгновение, когда поднял правую руку, чтобы взять у Дэвида кисть.
Свою правую руку.
И все еще помнил, как он поднял левую руку к холсту.
– Сиднем…
Он почти забыл о присутствии Энн. Она была его женой, его новобрачной. Ждала их ребенка. И она проявила к нему безграничную доброту, невзирая на свою собственную боль.
– Сиднем, – повторила Энн, – разве нет какого-нибудь способа, чтобы ты смог снова начать рисовать?
Ах. Она слишком хорошо его понимала.
Он невидящим взглядом уставился на павильон.
– У меня больше нет правой руки. Моя левая не справилась с этим. Ты же видела это сегодня утром.
– Ты использовал рот и изменил захват на кисти. И после этого смог сделать так, что Дэвид понял то, о чем ты говорил.
– Я не могу писать картины левой рукой и ртом. Прости меня, но ты не понимаешь, Энн. В моей голове возникают образы, которые перетекают в мою правую руку, которой больше нет. Должен ли я писать призрачные картины?
– Возможно, ты позволил видению управлять тобой вместо того, чтобы подчинить его своей воле?
Энн сидела на каменной скамье в павильоне, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Сейчас она больше всего походила на ту строгую учительницу, которой была еще несколько дней назад – и как всегда была ослепительно красива. Сид отвернулся.
– Образы – это не мускулы, которые можно натренировать, – тихо сказал он. – Я потерял глаз и руку, Энн. Я неверно вижу. Все изменилось. Все сузилось, стало плоским и потеряло перспективу. Как я смогу правильно рисовать, если неверно вижу?
– Правильно, – Энн голосом выделила то же слово, что и он. – Откуда мы знаем, что такое правильное и точное видение?
– То, что видят два глаза? – с горечью заметил Сид.
– Но чьи два глаза? Наблюдал ли ты когда-нибудь за птицей, парящей так высоко в небе, что кажется почти неразличимой для человеческого глаза, а затем камнем падающей вниз, чтобы схватить на земле мышь? Можешь ли ты представить, какое зрение имеет эта птица, Сиднем? Можешь ли ты представить, что значит видеть мир ее глазами? Видел ли ты ночью кошку, которая способна видеть то, что невидимо для нас в темноте? На что должно быть похоже такое зрение, как у кошки? Как мы узнаем, какое зрение – правильное? И существует ли оно вообще? Сейчас, имея только один глаз, ты видишь все немного по-другому, чем вижу я, или чем видел прежде ты сам. Но разве из-за этого твое зрение стало неправильным? Возможно, твое художественное видение способно разглядеть новое значение вещей и находить другие способы его выражения. Но это не значит, что ты будешь рисовать хуже. Возможно, требуется изменить твою манеру письма, чтобы это сподвигло тебя на то, о чем ты раньше и не мечтал?
Все то время, пока она говорила, Сид смотрел на серую, подернутую рябью поверхность озера, в которой, благодаря растущим вдоль берега деревьям, отражались мириады красок осени.
Сид испытал мучительный прилив нежности к Энн. Она так страстно хотела помочь ему, как и тогда, когда он проснулся от ночного кошмара. А он все еще не знал, как помочь ей.
– Энн, я не могу снова рисовать. Не могу. И все же я не могу жить, не рисуя.
Последние слова вырвались непроизвольно и ужаснули его. Сид никогда не осмеливался даже думать об этом. Не решался поверить в их правдивость и сейчас. Поскольку, если все обстояло именно так, то в его жизни не оставалось места надежде.
Внезапно им до глубины души овладело отчаяние.
А затем он снова ужаснулся тому, что громко всхлипнул, а когда попытался сдержаться, то не смог.
После этого Сид уже не мог остановить рыдания, разрывавшие его грудь и смущавшие до ужаса. Он попытался уйти, но тут две руки крепко сжали его в объятьях и продолжали удерживать, даже когда он начал вырываться.
– Нет, – сказала Энн, – все хорошо. Все хорошо, любимый. Все хорошо.
До этого он ни разу не плакал. Он кричал, когда был не в состоянии сдержать себя, стонал и мычал, а потом злился, страдал в одиночестве и стойко терпел. Но он никогда не плакал.
А сейчас он не мог сдержать слез. Энн держала его в объятьях и утешала, словно обиженного ребенка. И, как обиженный ребенок, он находил утешение в ее руках, ее тепле, ее шепоте. Наконец рыдания перешли в икоту, а потом и вовсе прекратились.
– Боже мой, Энн, – сказал он, отодвигаясь и шаря в кармане в поисках платка. – Прости меня. За кого ты теперь меня принимаешь?
– За того, кто преодолел все виды боли, за исключением самой глубокой.
Сид вздохнул и внезапно осознал, что идет дождь.
– Пойдем в укрытие, – он взял Энн за руку и увлек под крышу павильона. – Мне так жаль, Энн. Это утро просто выбило меня из колеи. Но я рад, что сделал это. Дэвид был счастлив. И он обязательно добьется успехов в рисовании маслом.
Их пальцы переплелись.
– Ты должен посмотреть в лицо последней, самой глубокой боли. Даже более того. На самом деле, ты только что уже сделал это. Но ты сделал это с отчаяньем. Должна быть надежда, Сиднем. У тебя есть художественное видение и твой талант. Этого достаточно, чтобы побудить тебя двигаться вперед, даже без правой руки и одного глаза.
Сид поднял их переплетенные руки и поцеловал тыльную сторону ее ладони, прежде чем отпустить. И попытался улыбнуться
– Я буду учить Дэвида. Стану ему отцом во всех отношениях. Буду ездить с ним верхом. Буду…
– Ты сам должен рисовать вместе с ним. Ты должен рисовать.
Но хотя он достаточно успокоился, внутри него все еще оставались холод и боль, о которых Сид не осмеливался думать годами с тех пор, как вернулся с Полуострова.
– И тебе, – сказал Сиднем, с ослепительной ясностью внезапно осознав то, о чем до этого мгновения даже не думал, – надо поехать домой, Энн.