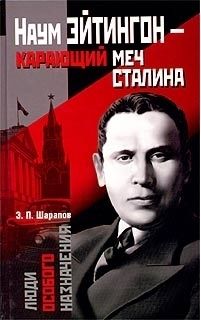Роксана Гедеон - Парижские бульвары
Барон де Батц, переодевшись истопником, в тот же вечер проник в замок. С самым глубокомысленным видом он осмотрел все фонари Тампля, а затем, опустив на лицо капюшон, пробрался в комнаты королевы, дофина и принцесс, якобы проверяя, как действуют дымоходы и камины. Королева и та ничего не подозревала. Тизон зорко следила за всеми действиями Батца и была, видимо, недовольна тем, что он так долго находится в комнатах узников Тампля.
Вернувшись в Эрмитаж де Шаронн, барон покачал головой.
– Не нравится мне эта Тизон. Очень уж не нравится… Так неужели нет способа заставить ее замолчать?
На следующий день я увидела королеву в окне. Используя тот же язык веера, она передала мне:
«Вы увидите с Туланом нового человека… внешне он вовсе не привлекателен, но он нам очень нужен, и мы должны привлечь его к себе».
Человеком этим оказался гражданин Лепитр, тщедушный, прихрамывающий и высокомерный. Он был одним из четырех комиссаров, избранных Коммуной, то есть напарником Тулана. В отличие от последнего, Лепитр согласился помогать барону не по убеждению. Гражданин комиссар изменил революции ради старорежимной золотой монеты.
Еще через неделю на золотой крючок Батца попались толстяк Мишони, главный инспектор парижских тюрем, и Кортей, военный комендант Тампля. Подкупить половину военной охраны башни было уже легче. С помощью Кортейля к башенному гарнизону был присоединен целый батальон, состоящий исключительно из друзей Батца. Втайне я удивлялась, почему все проходит так легко. Казалось, никто ничего не подозревал. Тизон оставалась единственной, не поддавшейся на подкуп, а вокруг нее все было куплено и повязано на собственной коррупции…
Два остальных комиссара и члены муниципалитета, в обязанности которых входило наблюдение за Тамплем, вели себя необыкновенно благодушно, а те, кто оставался честен и не желал изменять революции, по неизвестным причинам были временно отстранены от посещений замка.
Наступило 20 февраля. Барон де Батц в этот день снова пробрался в Тампль, но уже под видом не истопника, а солдата. Это была последняя инспекция перед началом головокружительной авантюры, и барон был всем доволен – а особенно тем, что Тизон, обедавшая накануне у своей подруги, страдала от ужасных колик в желудке и не приходила в Тампль.
Побег был назначен на 28 февраля.
3Воскресным вечером, когда все мое семейство с тоской доедало ужин, состоящий из картофеля и вареных бобов, к нашему скромному домику по улице Мелэ подъехала уже знакомая мне роскошная карета. Все жильцы прилипли к оконным стеклам, терзаясь завистью и любопытством одновременно.
Я не могла сдержать своей радости. После многих дней тревог приезд Клавьера был отрадным событием. Я почувствовала, как что-то сладкое екнуло у меня в груди, так, словно мне было всего шестнадцать… Я рассмеялась, сама удивляясь своему волнению. Всего лишь год назад разве могла я представить, что буду радоваться приезду этого негодяя и выскочки, как я тогда называла Клавьера?
Пока он поднимался в нашу квартиру, я бросилась к зеркалу. Во мне с небывалой силой проснулось прежнее желание быть красивой, соблазнительной, желание нравиться. И не кому-нибудь, а ему… Но что я могла увидеть теперь в зеркале? Бледную женщину, у которой лишь черные глаза сияли по-прежнему. Золотистые волосы рассыпаны по плечам… Платье старое, застиранное до невозможности, туфли стоптанные. На мне не было даже чулок. А откуда им взяться? Хорошо еще, что я из-за такой жизни стала очень стройна и не нуждаюсь в корсете. Мгновение я чувствовала досаду на Клавьера за то, что он увидит меня в таком неприглядном виде. Мог бы предупредить о своем приезде! Подумав об этом, я сразу сникла, и ощущение радости вдруг пропало.
Досада усилилась еще и оттого, каким показался Клавьер в старой грязной кухне: одетый с иголочки – белый с золотом камзол, накрахмаленный галстук, заколотый алмазной застежкой, шелковый молочно-белый жилет; на широких плечах – плащ, отделанный соболями, в руках – щегольская трость и шляпа со сверкающим плюмажем, белокурые волосы небрежно связаны сзади бархатной лентой… Есть ли в Париже кто-либо, одевающийся роскошнее Клавьера? В голодном, холодном Париже!
– Ах, это вы, – сказала я холодно и почти раздраженно.
Ну никак мне не удавалось преодолеть стыд за свой нищенский вид. Нищенский? Конечно, по сравнению с Клавьером. Он мог бы вырядиться и поскромнее. В душе я понимала, насколько низменны подобные мысли, особенно если они возникают в голове аристократки. Аристократки и в нищете должны сохранять достоинство… Я боролась с собой, но Клавьер явно мешал этой борьбе.
Мой холодный, если не сказать больше, прием несколько удивил его.
– Вы нездоровы? – спросил он.
– С чего вы взяли? – спросила я в ответ так же холодно.
– Да с того, дорогая моя, что ваши прелестные губки сердито надуты.
Он бросил шляпу и трость на деревянный стул и решительно подошел ко мне.
– Мне не нравится ваше дурное настроение. А эти губы… Право же, они должны улыбаться, а не дуться. Ну-ка, дайте мне посмотреть вам в лицо!
Я подняла голову, готовясь ответить что-то язвительное, но не успела. Руки Клавьера скользнули вокруг моей талии, ставшей очень тонкой за последние месяцы, и он так резко потянул меня к себе, что я почти упала ему на грудь. В то же время он припал к моим губам в неспешном мягком поцелуе.
Сильные губы его были свежи и солоноваты, как вкус моря. Он целовал мня неторопливо, словно имел впереди сколько угодно времени, я ощущала шершавость его кожи на своих губах, горячее дыхание сливалось с моим, учащенным и прерывистым, и я таяла, растворялась в этой ласке. Пока что страсть не вспенивала кровь и не мчалась расплавленной магмой по телу. Пока что все было умиротворенно, словно так рождалась прелюдия к долгой симфонии любви. И он отпустил меня прежде, чем поцелуй мог стать глубоким и страстным.
Моя голова так и лежала у него на груди, я не чувствовала в себе сил стоять без поддержки его сильных рук. Клавьер гладил мои плечи, его дыхание грело мою щеку, я ощущала нынче не только себя, но и его – ощущала, как мало-помалу проходит дрожь в теле и мы оба успокаиваемся.
– Я не мог стерпеть каприз на ваших губах, – прошептал он мне на ухо.
– Рене, это ни на что не похоже, – проговорила я едва слышно. – Я… я как ребенок рядом с вами.
– Не похоже на что? На то, что было с вами, когда вас заключали в объятия ваши дурачки возлюбленные?
В его голосе прозвучала такая ненависть, что я удивленно вздрогнула.
– И это говорит банкир, для которого главное – расчет, а не чувства?
– К черту все эти рассуждения! Я ненавижу всех, кого вы любили раньше, ненавижу, хоть сейчас они, возможно, просто мифические противники.