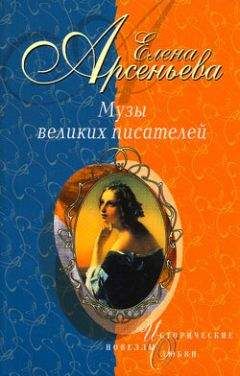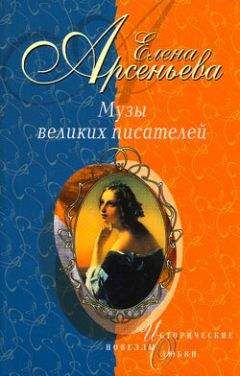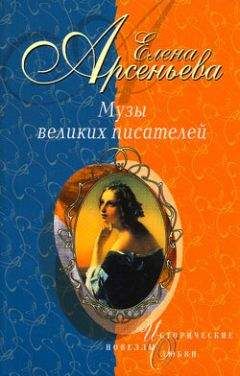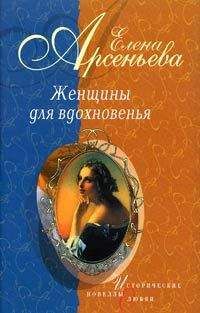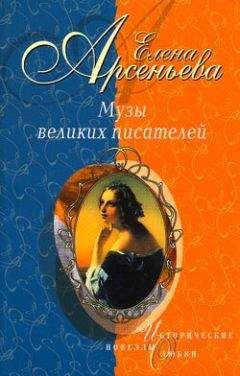Елена Арсеньева - Женщины для вдохновенья (новеллы)
И вот в феврале 1814 года Василий Андреевич уже писал приятелю: «Приезжай, приезжай! Наши дела идут сильно к развязке, ничего не испорчено, хотя и могло бы испортиться, струны только более натянуты; или они лопнут, или будет совершенная гармония. При всей трусости верю более последнему… Твои дела идут хорошо: говорят о тебе, как о своем, списывают твои стихи в несколько рук».
Короче, Жуковский хлопотал за Воейкова как мог. И убедил-таки Катерину Афанасьевну согласиться на этот брак. Примерно в то же время Воейков, который страстно мечтал получить профессорскую кафедру в Дерптском университете, добился желаемого. То есть судьба благоволила ему, и Василий Андреевич вполне мог ожидать ответной помощи от более удачливого приятеля.
Не тут-то было! Воейков сделался горячим пособником Катерины Афанасьевны Протасовой, стал на ее сторону, принялся отговаривать Машу от брака с Жуковским, да и к самому поэту начал относиться с надменностью, как к низшему существу. Он понимающе кивал, когда Катерина Афанасьевна бросала «в сторону» намеки на происхождение Жуковского (а ведь тот никогда и ни от кого этого не скрывал, хотя и не афишировал, разумеется), он поддерживал возмущение будущей тещи тем, что патриарх Филарет принял сторону Жуковского в споре о родстве, он всячески укреплял нетерпимость Протасовой, и результатом его стараний стал новый отказ Жуковскому.
«Я посматривал исподлобья, — с горечью напишет Василий Андреевич после своего очередного неудачного сватовства, — не найду ли где в углу христианской любви, внушающей сожаление пощады, кротости. Нет! Одно холодное жестокосердие в монашеской рясе и с кровавою надписью на лбу: должность (выправленное весьма искусно из слова суеверие) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами».
Увы, Жуковский был еще слишком легковерен и наивен, он не усмотрел еще, откуда Катерина Афанасьевна получает теперь поддержку. Он еще не видел коварства Воейкова.
Катерина Афанасьевна доверяла Воейкову полностью и потребовала, чтобы Жуковский не показывался в их доме до возвращения жениха Саши, который находился сейчас в Дерпте. Новое крушение надежд отразилось на творчестве поэта самым губительным образом. В письмах к друзьям он с искренним недоумением восклицает: «Как же велеть душе летать, когда она вязнет в тине? Как иметь стихотворные мысли, когда все погибло?»
Для человека творческого любовь и вдохновение неотделимы, и невозможность писать была такой же трагедией, как и очередной отказ Протасовой. Василий Андреевич разуверился в будущем счастье, разуверился в своем таланте до такой степени, что не скрывал: «Самое живое и приятное желание и надежда мои были в то время на смерть».
Маша, лишенная возможности видеть «милого Базиля», писала ему непрестанно, уверяла в своей любви. Впрочем, в чем-чем, а в этом Жуковский не сомневался. Но если раньше ему было необходимо еще и обладание любимой женщиной, то постепенно надежда на счастливое будущее гаснет в его душе. Он начинает смиряться с тем, что переубедить Катерину Афанасьевну не удастся никогда, что он обречен любить Машу только платонически. Мысль искать поддержки своему сватовству у друзей сановитых, даже в царской семье, сильно к нему расположенной, раз явившись, больше не тревожит его воображения. По сути своей Василий Андреевич не был борцом — что и говорить, нежное женское окружение, воспитание среди множества любящих дам сыграло свою роль. Привыкнув легко получать то, что хотел, он не умел неотступно добиваться цели. И теперь отчаяние его начинает постепенно стихать. Ему уже довольно самого факта любви — любви к милой, идеальной, любящей Маше. Он дает ей клятву вечной верности и надеется на такую же верность с ее стороны. Он готов жить только чувствами и мечтами о несбывшемся. Может быть, потом, когда-нибудь…
Короче, Жуковский, не в силах справиться с реалиями жизни, начинает смиряться с поражением, придавая ему видимость нравственной победы: «Даю тебе слово, — пишет он возлюбленной, — что убийственная безнадежность ко мне уже не возвратится… Для меня теперь одно занятие, и это занятие будет троякое: читать — собирать хорошие мысли и чувства; писать — для славы и пользы; делать все то доброе, которое будет в моей власти. Милый ангел, еще жить можно! Хорошо мыслить и чувствовать — не есть ли всегда быть с моей Машей, становиться для нее лучшим? О! Я это часто, часто испытывал: при всякой высокой мысли, при всяком высоком чувстве воспоминание о тебе оживляется в моем сердце! Я становлюсь как будто знакомее с тобой и дружнее. Где же разлука? Разве не от меня зависит быть всегда с тобою вместе? Слава имеет теперь для меня необыкновенную и особенную прелесть — какой, может быть, и не имела прежде. Ты будешь обо мне слышать! Честь моего имени, купленная ценою чистою, будет принадлежать тебе! Ты будешь радоваться ею, и обещаю возвысить свое имя. Эта надежда меня радует. Приобрести общее уважение для меня теперь дорого. О! Как мне сладко думать, что сердце твое будет трогаться тем уважением, которое будут мне показывать… Быть добрым на деле значит для меня любить Машу. Я мало, слишком мало добра сделал. Теперь много имею причин сделаться добрее. Всякое доброе дело будет новою с тобой связью».
Как все это мило, как идеально и возвышенно… Так и хочется без конца цитировать письмо, умиленно восклицая вслед за Жуковским: «О!» Что и говорить, унылый сентиментализм был в ту пору чрезвычайно в моде. А уж романтизм-то!.. Однако ведь и Пушкин был неисправимый романтик, что не мешало ему тешить свою плоть и осчастливливать чуть ли не всех встречаемых им женщин старым дедовским способом, а вовсе не с помощью словесной пыли… пусть даже золотой, даже алмазной, но — словесной!
На интересную же жизнь обрекал Василий Андреевич Жуковский свою возлюбленную! Право, лучше он бы выкрал ее из маменькиного дома и тайно обвенчался с ней, рискнув подвергнуться анафеме! Это было бы более человечно и по отношению к себе, и по отношению к ней. Что его останавливало? Только ли порядочность? Или боязнь утратить расположение сановных покровителей? Да бог его разберет, Жуковского! Одно бесспорно: он вполне преуспел в своих стараниях сделать из Маши Протасовой образ свой и подобие, то есть создать существо незлобиво-бесполое. Это видно по ответным восклицаниям «бедной Маши» — разумеется, тоже эпистолярным:
«Цель моя есть — делаться лучше и достойнее тебя. Это разве не то же, что жить вместе? Счастье впереди! Вопреки всему, будь его достоин, и оно будет твое. Одного только я бы желала: бо?льшую доверенность на Бога и беспечность младенца: тот, кому все поверишь, все и сделает».