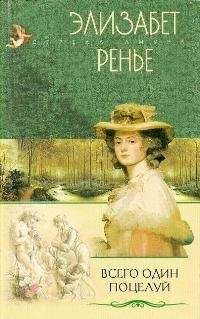Елена Арсеньева - Несбывшаяся любовь императора
– Жива покуда, – ухмыльнулся незнакомец, придирчиво озирая ее, словно и впрямь снимал мерку для гроба. – Да надолго ли? – И вышел.
Варя даже дверь не тотчас смогла запереть – так дрожали руки.
Об этом случае она никому и ничего не сказала и сама постаралась забыть о нем.
Да разве можно было забыть о таком?!
А незнакомец, выйдя от Вари, скоро был в некоем известном нам доме, где сообщил своей хозяйке о результатах визита к Асенковой.
– Ну и ладно, – кивнула та. – Обещала доктору предупредить ее – и предупредила. Теперь надо ждать.
– Недолго ждать-то придется, – сообщил Сергей, который толк в смертях знал, а потому глаз у него был наметанный.
Наталья Васильевна трепетно вздохнула, предвкушая удачу.
* * *
Прошло несколько дней, и фортуна, ревнивая, завистливая, как все женщины, повернулась к Варе спиной. «Литературные прибавления» ежедневно уверяли зрителей, что молоденькая выпускница Театрального училища Гринева будет гораздо лучше смотреться в «Параше-сибирячке», чем двадцатитрехлетняя Асенкова, которая для роли шестнадцатилетней девушки старовата.
В театре начали появляться зрители, которые занимали сразу несколько рядов и буйно аплодировали Наденьке Самойловой, ошикивая и освистывая Варю, не давая ей и слова молвить. Писем на квартиру Асенковых стало приходить гораздо больше, однако признания в любви и восхищенные письма терялись среди анонимных посланий столь грязного содержания, что после них руки мыть приходилось. И все чаще появлялись письма с угрозами: Асенкова будет искалечена, изуродована. Пусть лучше сидит дома и не высовывается! Тем более что в театре ей вообще нечего делать – там и получше ее есть!
Варя от всего этого чувствовала себя – хуже некуда. Утихший было кашель возобновился, а боли в груди порой становились непереносимы. Тем не менее она не отменяла спектаклей. И вот однажды вечером, когда актеры усаживались в театральную карету, подбежал какой-то офицер и бросил в нее зажженную шутиху. При этом он злорадно хохотал, глядя в лицо Варе.
Шутиха пыхнула, но упала в тяжелую шубу актера Петра Ивановича Григорьева и тут же погасла. А ведь она могла не только изуродовать всех, кто был в карете, но и убить их!
Случившееся дошло до сведения шефа армии, великого князя Михаила Павловича. Он считал себя другом актрисы и возмутился невероятно. Офицера разыскали – это оказался некто Волков, прежде безуспешно искавший Вариной благосклонности, а потом переметнувшийся в число поклонников Наденьки Самойловой.
Разумеется, у всех на языке вертелось имя если не виновницы, то прямой подстрекательницы случившегося, однако Волков держался благородно, Наденьку словом не упомянул и, не умолкая, твердил о своей злобе на отвергнувшую его Варю. Даже гауптвахта не охладила его: он грозился, выйдя на свободу, похитить Асенкову и увезти бог весть куда, а потом бросить опозоренную. Словом, он совершенно спятил. Его судили военным судом и приговорили к ссылке на Кавказ.
Правда, судьба Волкова мало волновала Варю. Подъем, вызванный бенефисом, давно сошел на нет. Чудилось, распроклятая шутиха хоть и не обожгла ей лица, но опалила душу дыханием злобной зависти. Она слегла и все реже приезжала в театр, а потом… Потом настал день, когда она вовсе не смогла туда приехать.
Новый, 1841 год она встречала, прекрасно понимая, что он будет последним в ее жизни. Дважды она еще смогла справиться с болезнью и появиться в театре, к восторгу публики. На 14 апреля был назначен ее бенефис. И вот тут-то кончились силы. Она не смогла даже воспользоваться пособием, назначенным ей императором для поездки за границу на лечение. Куда там ехать! Она и встать-то не могла!
В этот вечер роли Асенковой играла Надежда Самойлова.
По Петербургу пронеслась весть: Асенкова – божественная, фантастическая женщина, звезда русской сцены! – умирает. Множество людей хотели увидеть ее, однако она не принимала никого:
– Нет, они уже не узнают меня, не надо…
И вдруг послала за той, которая ни разу не изъявила желания не то что увидеть умирающую, но хоть привет ей передать: за Наденькой Самойловой.
Надежда явилась с опаской, прижимая к лицу надушенный платочек. Все-таки чахотка заразна…
Варя приняла ее в затененной спальне: не могла даже теперь допустить, чтобы соперница увидела ее поверженной.
Мать и сестра сидели в прихожей под дверью, чувствуя себя оскорбленными: они не могли понять, зачем Варе понадобилось видеть эту особу, ставшую причиной стольких бед и, безусловно, ускорившую ее кончину.
Им не было слышно ни единого слова: Варя уже не могла говорить громко.
Не прошло и десяти минут визита, как дверь распахнулась. Наденька вылетела вон, по-прежнему прижимая к лицу платочек, и ринулась из квартиры. На площадке она обернулась к испуганной Александре Егоровне. Отняла платок от лица, и стало видно, что оно залито слезами. Рыдая, судорожно всхлипывая, Наденька сдавленно выкрикнула:
– Скажите ей… никогда, ни слова о нем… клянусь! – и кинулась вниз по ступенькам.
Ничего не понимая, Александра Егоровна вернулась к дочери.
Варя ничего не отвечала на расспросы, а потом стало уже не до них.
* * *
В гроб ее положили в белом платье, в венке из белых роз.
– Офелия, – бессвязно бормотал Полевой, стоя над нею. – Офелия… Тебя любил я, как сорок тысяч братьев любить не могут… Плакать, драться, умирать, быть с ней в одной могиле? Да я на все готов, на все… получше брата я ее любил!
Окружающие посматривали с испугом, перешептывались: не сошел ли с ума знаменитый литератор? Но знавшие тайну этой несбывшейся любви угрюмо молчали.
Хоронили актрису Асенкову на Смоленском кладбище в такой мрачный, такой дождливый день, что невольно напрашивалось тривиальное сравнение природы с печальной похоронной процессией. Варю положили рядом с могилой Николая Дюра, под кипарисом.
Полевой не отходил от гроба, пока не опустили крышку. Он плакал, не стыдясь. Впрочем, все тут плакали. И никто не обращал внимания на худенького юношу в студенческой тужурке, который тоже утирал слезы, пряча лицо. Еще один поклонник божественной Асенковой – да ведь имя им легион.
Этим юношей был Николай Некрасов – тот самый, которому еще предстояло сделаться знаменитым… Когда это произойдет, он напишет стихи «Памяти Асенковой»:
В тоске по юности моей
И в муках разрушенья
Прошедших невозвратных дней
Припомнив впечатленья,
Одно из них я полюбил
Будить в душе суровой.