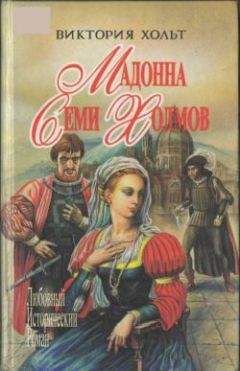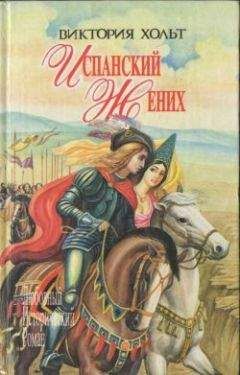Виктория Холт - Мадонна Семи Холмов
– Давайте так и сделаем.
– Легче сказать, чем сделать, сынок. Этот провинциальный хозяйчик относится к нам с подозрением.
– Бедная Лукреция, как, должно быть, она страдает!
– По правде говоря, я в этом не уверен. Тон ее писем стал холоднее, порою мне кажется, что владетель Пезаро сумел отторгнуть ее от нас, что она все больше становится его супругой, а не моей дочерью и твоей сестрой.
– Такого нельзя допустить! Он превратит ее в такое же скучное и нелепое существо, как он сам! Мы должны вернуть ее, отец!
Папа важно кивнул:
– И вместе с нею – Джованни Сфорца. А когда они прибудут…
Папа на секунду умолк, и Чезаре переспросил:
– Так что случится, когда они прибудут?
– Мы разоружим его своим дружелюбием. И это – первый шаг. Словами, жестами, делами мы дадим ему понять, что он для нас больше не чужак. Он – супруг нашей возлюбленной дочери, и мы отдаем ему часть своей любви.
– Это будет довольно трудно, – угрюмо заметил Чезаре.
– Нет, если все время помнить о конечной цели.
– А когда он окончательно уверится в нашем расположении, – мечтательно проговорил Чезаре, – мы пригласим его на банкет. Но сразу же он не умрет… Это будет долгая и мучительная смерть.
– Да, мы препоручим его заботам кантареллы…
– С превеликим удовольствием, – заявил Чезаре.
Итак, Лукреция с супругом отправились в Рим. Джованни Сфорца ныл всю дорогу:
– Что еще задумала твоя семейка? С чего это вдруг они воспылали ко мне таким вниманием и любовью? Я им не доверяю.
– О, Джованни, какой ты недоверчивый. Все это потому, что они любят меня и увидели, что ты сделал меня счастливой.
– Предупреждаю: я буду настороже! – объявил Джованни.
Но и он был поражен оказанным ему приемом.
Папа обнял его и назвал возлюбленным сыном, объявил, что супруг Лукреции достоин самого высокого чина при папском дворе. Никогда еще в жизни к Джованни не относились с такой помпой. И страхи его постепенно таяли: в конце концов, говорил он себе, я – муж Лукреции, и Лукреция вполне удовлетворена нашим супружеством.
Он без конца обсуждал этот предмет со своим наперсником – юным красавцем Джакомино, камердинером. Джованни полагал, что во всем свете лишь Джакомино достоин его доверия.
– Мой господин, – отвечал Джакомино, – вам кажется, что вас приняли самым благоприятным образом, но, мой господин, храните осторожность. Говорят, что есть за столом Борджа опасно.
– Да, я слыхал такие разговоры.
– Вспомните, как умер Вирджинио Орсини.
– Об этом я тоже думал.
– Мой господин, умоляю, ешьте только то, что я сам для вас готовлю.
В ответ Джованни лишь смеялся, но он знал, что не многие испытывают к нему такую любовь и так верны, как Джакомино, поэтому обнял юношу:
– Не пугайся, Джакомино. Я могу и сам позаботиться о себе.
Он рассказал Лукреции о страхах Джакомино.
– Они совершенно беспочвенны, – объявила Лукреция. – Мой отец принял тебя в круг семьи. Он знает, что мы с тобой счастливы вместе. Но Джакомино – хороший паренек, и я рада, что он так о тебе печется.
В последующие несколько недель Джованни начал, наконец-то, обретать уверенность в себе.
Я могу сделать Лукрецию счастливой, думал он, а Папа так любит свою дочь, что благословит всякого, кто даст ей счастье. И он начинал верить, что, несмотря на все разговоры, Борджа – самая обыкновенная семья, в которой все члены, за исключением Джованни и Чезаре, любят друг друга.
И снова пришел карнавал, и снова Борджа не могли противиться всеобщему веселью. Папа наблюдал за процессиями с балкона, аплодировал нескромным шуткам, рассылал благословения. На свете еще не было человека, который так мирно сочетал бы в себе любовь к непристойности и к благочестию, и не было человека, который с такой готовностью находил бы в религии лишь самые забавные и радостные стороны. И потому во времена карнавалов паства любила святого отца как никогда.
Джованни Сфорца карнавал не понравился: ему не нравились ни его вольности, ни его непристойность, он вообще начал тосковать по тишине и покою Пезаро.
Он не желал выходить на улицу, и Лукреция отправлялась на карнавал в сопровождении братьев и Санчи, а также своих и братьев приближенных.
Джованни Борджа пришла идея всем переодеться бродячими мимами и присоединиться к процессии.
Лукреции мысль эта показалась замечательной: она наслаждалась римским весельем и отнюдь не тосковала по тихому, спокойному Пезаро.
Санча переключила все свое внимание на Джованни, в надежде разжечь в Чезаре злобу, и Джованни не оставался в долгу: они, переодетые лицедеями, возглавили процессию, они на виду у всей публики танцевали страстные испанские танцы, и всем зрителям было ясно, чем такие танцы должны заканчиваться.
Чезаре совсем не думал ни о Санче, ни о своем брате Джованни – его сейчас интересовал другой Джованни, Сфорца, он строил планы и думал о том, как претворить их в действие. К тому же сейчас рядом с Чезаре была Лукреция, а его страсть к Санче не шла ни в какое сравнение с любовью к младшей сестре.
Но и сейчас на него частенько накатывали приступы гнева – вовсе не из-за Санчи с Джованни Борджа, а при мысли о том, как Лукреция жила с Джованни Сфорца.
– Лукреция, малышка, – спрашивал он, – ты любишь карнавалы?
– О, да, братец. Я всегда их любила! Разве ты не помнишь, как мы наблюдали за процессиями с балкона материнского дома, как завидовали гулякам?
– Я помню, как ты хлопала в ладошки и танцевала на балконе.
– А порой ты брал меня на руки, чтобы я могла получше все разглядеть.
– У нас много приятных общих воспоминаний, и, когда я думаю о том, что нам приходилось разлучаться, я готов убить тех, кто повинен в разлуках.
– Ой, Чезаре, пожалуйста, в такой веселый вечер не надо говорить о грустном!
– Но именно в такие вечера я и думаю о разлуках… Этот твой муженек нарочно не хотел тебя к нам привозить.
Она улыбнулась:
– Но он – владетель Пезаро, и у него есть свои обязанности.
– А как ты думаешь: скоро ли он потащит тебя назад в Пезаро?
– Я думаю, он ждет не дождется дня, когда сможет уехать домой.
– И ты тоже хочешь нас покинуть?
– Чезаре! Да как ты можешь такое говорить? Неужели ты не понимаешь, что я так по вас тоскую, что никогда не буду счастлива от вас вдалеке?
Он перевел дух:
– Да, вот именно это я и хотел от тебя услышать! – он обнял ее за плечи и притянул к себе. – Дорогая сестричка, – прошептал он, – не бойся. Еще немного, и ты освободишься от этого человека.
– Чезаре? – удивленно переспросила она.
Танец, музыка взволновали его. Он чувствовал необыкновенную нежность к сестре, и в этой нежности на время растворилась ненависть к Санче и брату. Он жаждал укрыть Лукрецию от всех невзгод, и, предполагая, что она так же, как и он, и их отец, презирает своего муженька, не мог удержаться, чтобы не намекнуть на ее скорую свободу.