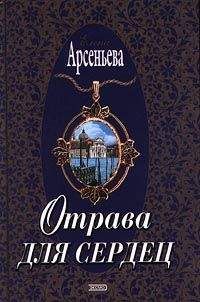Елена Арсеньева - Возлюбленная Казановы
Молодая княгиня, поблагодарив небеса хоть за эту малость, решилась тем не менее пробираться на родину; к тому же проезд до Франции был оплачен. Она не могла, просто не умела сворачивать с дороги, отступать. В точности как ее великий предок Петр Первый. Но он был мужчина. Он был император. А она – женщина, едущая домой без денег, без сил и почти без надежды на удачу.
Это решение было легче принять, чем исполнить. Путешествие, задуманное как стремительное передвижение на самых лучших лошадях и в легких французских каретах с точеными стеклами, превратилось в полуголодное, лишенное всяких удобств странствие по территории пяти государств. Продав драгоценности за полцены, ехали – лишь бы ехать! – в самых неприглядных повозках; порою и пешком шли, начиная от Пруссии, куда они добрались, уж вовсе обнищав. Жизнь, эта капризная волшебница, повернулась к ним теперь только самой неумолимою стороною своею. У Августы, однако, еще оставался браслетик с изумрудами, ценой которого они могли бы обеспечить себе большее удобство передвижения, но княгиня нипочем не пожелала расстаться с браслетом, пока не достигнет Варшавы, чтобы приодеться при въезде в отечество, – не явиться к матери оборванной нищенкой.
Что же, Лизе не впервой было голодать и бедовать. Но Августа… Она была до такой степени истерзана долгой, трудной дорогою, постоянным желанием досыта поесть и вволю выспаться, что сделалась раздражительной, в любую минуту готовой к слезам, ненавидящей всякого встречного-поперечного за дерзкий взгляд, за резкое слово, за небрежный отказ снизить цену проезда, кружки молока, куска хлеба… А на грубость, дерзость она теперь натыкалась не в пример чаще, чем прежде, когда, охраняемая верными слугами, денно и нощно лелеяла мечту о возвращении к российскому престолу. Теперь Августа знала, что Фортуна – не ленивая, слепая женщина, а чудовище с жестоким и ужасным ликом, с сотнею рук, одни из которых поднимают людей на самые высокие ступени земного величия, другие – наносят тяжкие удары и низвергают.
Казалось, уже тогда, среди летней благодати, хоть чуть-чуть, но смягчавшей тяготы пути (не холодно было и в чистом поле переночевать) и даровавшей бесплатное пропитание из садов и огородов, Августа интуитивно ощущала свой неизбежный конец… Теперь путь ее в Россию был не исполнением чаяний, а просто путем зверя в свою нору, где он хотел бы перевести дух, зализать раны. Или хоть умереть.
На исходе октября две молодые женщины в оборванном платье брели по дороге из Лодзи в Варшаву. Они давно уже не разговаривали между собой: усталость превозмогла все чувства.
Лиза шла чуть впереди, изредка приостанавливаясь, чтобы подождать отставшую Августу. Ее подруга сегодня была особенно молчалива, шла с трудом, понуро, но стоило Лизе взять ее под руку, чтобы помочь, выдергивала руку почти сердито. Ну, она и ушла постепенно вперед и даже оглядываться старалась как можно реже, чтобы не раздражать Августу.
Вдруг странное, непривычное ощущение одиночества оледенило спину. Лиза оглянулась – и, ахнув, со всех ног кинулась туда, где темнела на обочине скорчившаяся фигурка.
Лежавшая на земле Августа вдруг показалась ей такой маленькой и жалкой, что она упала на колени, подхватила, ласково повернула к себе и вскрикнула от страха: лицо Августы было багрово от жара, да и все изможденное тело ее пылало огнем.
Лиза не верила глазам. Она, кажется, меньше удивилась бы, окажись вдруг на дороге Джудиче с тем самым ножом, которым он поразил Фальконе, чем тому, что произошло само собою. И так неожиданно, так внезапно! Словно бы молния ударила с небес и поразила Августу.
– Вставай, вставай же, Агостина, – прошептала Лиза, надеясь этим ласковым именем прежних, счастливых дней вернуть ей сознание, но та не слышала. Слезинка упала на щеку Августы и вмиг исчезла, словно коснувшись раскаленной печки.
Прижимая к груди голову бесчувственной подруги, Лиза беспомощно огляделась.
Дорога да лес. Что еще она увидит? Пусто: ни хуторка, ни местечка, ни селения, ни даже убогой корчмы. Где искать, куда бежать, кого просить о помощи?! И как холодно, как же холодно!.. Сейчас бы согреть Августу, горячим напоить, уложить в теплую постель…
– О господи, о Пресвятая Дева, да помогите же хоть кто-нибудь!..
Опустив подругу наземь, Лиза вскочила и принялась рвать на обочине пожелтевшую траву. Не заметив в зарослях небольшую канавку, провалилась в нее, едва не вывихнув ногу. Вновь подступили слезы, но тут же она возблагодарила судьбу хоть за это подспорье и принялась ломать ветки, с которых осенние ветры сорвали уже почти всю листву, и устилать дно канавы. Земля была сыроватая, но на дне не хлюпало, спасибо и на том. Набросала на ветки палого листа, травы, что посуше, потом с величайшим трудом перетащила на это убогое ложе Августу и засыпала ее по самую шею травой да листьями. Лиза смутно припомнила рассказы цыганки Татьяны, которая выхаживала ее в избушке на берегу Волги, как та оборачивала тело больной сухими листьями, вытягивающими жар, и решилась последовать сему примеру. Наверняка надлежало прикладывать листья прямо к коже, но она побоялась раздеть Августу в такую стынь! Уповала лишь на то, что пылающее тело согреет, высушит траву и лист, а те согреют потом ее же. Может быть, полегчает чуточку, чтобы хоть очнулась да собралась с силами подняться, дойти до какого-нибудь жилья…
Августа слабо шевельнула обметанными, сухими губами, и Лиза решилась пройти по канаве дальше, не найдет ли где-нибудь бочажок, чтобы намочить платок и освежить лоб и губы подруги несколькими каплями воды, и вдруг услышала, как Августа невнятно шепчет что-то. Прислушалась, и дыхание перехватило от страха.
Это была песня. Сладкую итальянскую мелодию, разнеживающую сердце, Лиза узнала без труда: частенько слыхивала ее на вилле Роза. Слова, слетавшие с воспаленных уст, не столько разобрала, сколько вспомнила:
О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна!.. Пой же, смейся!
Счастлив тот, кто счастья хочет,
А на завтра не надейся…
– Агостина! – воскликнула Лиза, не в силах больше слушать это, как бы из могилы исходящее, пение, и глаза больной широко раскрылись.
Лиза приободрилась было, наклонилась к ней с улыбкой; тотчас увидела, что смотрится словно в мутное зеркало, так незрячи, так бессмысленны и безжизненны были глаза.
– Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили, – жалобно пробормотала Августа и вдруг рванулась, воздев руки, разметав листья и траву, хрипло выкрикнула по-латыни: – Vae victis![19] – И с тяжелым вздохом рухнула навзничь.
Глаза ее остались открыты. Травинка, упавшая на бледные уста, ни разу больше не шевельнулась.