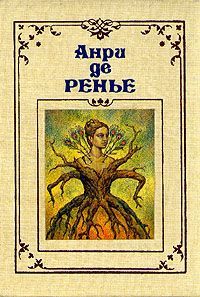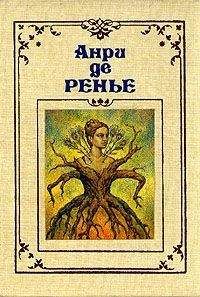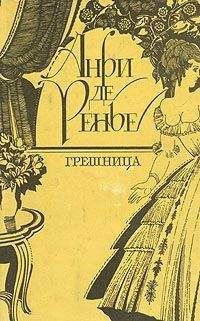Анри Ренье - Ромэна Мирмо
V
…Теперь Ромэна Мирмо была охвачена сполна ужасной правдой. Первые два дня после поездки на виллу д'Эсте она жила спокойно и тихо. Только на третий день вечером, когда она шла по площади Барберини, мимо тритоньего фонтана, ее осенила страшная истина, внезапная, ошеломляющая! И она лишилась чувств. Один из подбежавших прохожих узнал ее, и ее отвезли в отель.
Теперь она знала, что остаток ее дней обречен любви, сожалению и раскаянию. Как она ни защищалась, она побеждена и обезоружена. Она пыталась бежать, и вот она настигнута. Она лгала самой себе, и вот нить ее лжи оборвалась. Она была малодушна. К чему ей послужило ее малодушие? Правда одолела, схватила ее за горло, повергла наземь и душит. Чудовищная очевидность открылась ее рассудку. Напрасно, замкнувшись в своем эгоизме, пыталась она, лицемерными и преступными руками, шить мертвому саван забвения. Потому что именно это хотела она сделать, она, виновная в пролитой крови, она, из-за кого Пьер де Клерси покончил с собой, Пьер де Клерси, который ее любил — и которого она любила!
При этой мысли Ромэну Мирмо охватывал долгий трепет. К ее губам подступал крик, который она заглушала руками. Она уже не старалась отогнать трагический образ. Она взирала на него с покорным ужасом. Да, она виновна в смерти Пьера, так же виновна, как если бы она сама навела смертоносное оружие и спустила курок. Это она из молодого и прекрасного жизненосца сделала недвижимый, холодный труп. При трагическом жесте Пьера незримо присутствовала она. Это она вызвала этот жест, тайно, незаметно, рядом мелких толчков, неощутимых внушений. Напрасно старалась она отрицать перед самой собой свое участие в отчаянном поступке юноши, это участие было несомненно, очевидно, бесспорно.
И медленно, спокойно, с мучительной ясностью мысли Ромэна возвращалась к причинам катастрофы, анализировала подготовлявшие ее обстоятельства; она уясняла себе их взаимную связь. Иногда эти размышления сменялись внезапными образами. Тогда перед ней оживал ее приезд в Париж, вечер в Булонском лесу, когда на ночной лужайке она узнала месье Клаврэ. Пьер де Клерси приветствовал ее поклоном. Она видела глаза Пьера, устремленные на нее, эти глаза, которые теперь закрылись навсегда и никогда уже на нее не взглянут. И другие воспоминания воскресали в ее уме. Завтрак у Вранкуров, когда она в первый раз довольно долго беседовала с Пьером; начало их товарищеских отношений, вскоре затем перешедших в дружескую близость, их прогулки по Парижу и наезды Пьера в Ла-Фульри, где на стенах провинциальной столовой выцветшие Эрос и Психея, казалось, прислушивались к болтовне старых тетушек де Жердьер, и дни в Аржимонском парке, и завтрак среди Ронвильских развалин, в туфовом гроте…
Этот грот она себе представляла в мельчайших подробностях, с неестественной отчетливостью. Она видела корзину с фруктами на большом грубом столе и Пьера де Клерси, который говорит, облокотясь. Она слышала его голос, это страстной горячностью звучащее признание, пламенной мольбы которого она будто бы не понимала. А между тем начиная с этого дня разве она не чувствовала втайне, что готовится что-то важное, в чем она будет ответственна?..
Но эту мысль она с досадой отгоняла, потому что в ней крылось посягательство на ее эгоизм, на ее спокойствие. То же неосознанное чувство заставило ее отвергнуть предложенную ей любовь. А в то же время, когда она отвечала на признания Пьера словами благоразумия и дружбы, ей приходили на ум другие слова. Так почему же она не посмела назвать по имени то, что она уже испытывала в глубине души? Почему она так старательно скрывала от себя свои чувства? А в тот день, когда Пьер де Клерси пришел к ней в комнату, в отеле Орсе, чтобы крикнуть ей в лицо о своей страсти, почему она велела ему замолчать? Почему, когда он коснулся ее своими пламенными руками, вырвалась она из объятий, которые звала, тайно и молча, всем своим телом и всей своей душой? А он, почему он отпустил?.. Ах, если бы он был смелее, повелительнее, грубее! Разве она не отдалась бы радостно его объятиям? Как бы она ему ответила на его поцелуи, как бы призналась ему в своей любви! Но ее губы остались немы, а его губы теперь замкнулись навсегда. Теперь Пьера де Клерси больше нет, Пьер де Клерси покончил с собой, а она его любила!..
Она его любила. Она знала теперь, что любила его с того первого вечера на Кателанском лугу. Она любила его в милые дни Аржимона; она любила его, робкого и страстного, в Ронвильском гроте, умоляющего и безумного в комнате отеля Орсе. Она любила его за его молодость, за его изящество, а также, быть может, в силу другой, более таинственной причины, быть может, потому, что он был для нее как бы посланцем, глашатаем этого молчаливого брата, этого Андрэ, замкнутого и далекого, который взволновал ее сердце когда-то. Разве не был Пьер немного как бы Андрэ, вернувшийся к ней из прошлого, только моложе, пламеннее, и представший перед ней в новом и неожиданном облике? Но все это, увы, она поняла слишком поздно! Ее мрачная ошибка озарилась только при смертоносной вспышке револьвера. Цветок любви распустился в ней только орошенный кровавой росой…
При этой мысли сердце Ромэны разрывалось от скорби и сожалений, и к этой скорби, к этим сожалениям присоединялось мучительное раскаяние. Ведь она не только не понимала, что любит Пьера, но не желала даже допустить, что он ее любил. Мало того, к трагическому доказательству, которое он ей дал в своей любви, она осталась холодно, черство, себялюбиво равнодушной. Она трусливо отстранилась от всякого участия в ужасном событии, которому была слепой причиной. Оно ее раздражало. Своим равнодушием, своим неодобрением она даже в смерти преследовала того, кто умер из-за нее. Из страха она закрывала глаза, затыкала уши, отворачивалась. Отвергая приношение, она возненавидела жертву.
О, как она себя ненавидела и презирала! Она смотрела на себя с отвращением. Ей было стыдно глядеть на свои руки, на свое лицо. Она ненавидела свое тело, в котором размеренно струилась кровь, тогда как кровь Пьера хлынула из открытой раны. Она содрогалась при мысли, что он теперь только труп, недвижимое, окоченевшее тело, медленно разлагающееся, тогда как ее тело все еще живет.
И это отвращение к самой себе Ромэна переживала жестоко, она наслаждалась его омерзительной горечью.
Когда она смотрелась в зеркало, разве не готово было ей крикнуть ее отражение, что невыносимо жить, когда тот, кто любил тебя, умер, умер потому, что ты не захотела обнять его вот этими руками, которые теперь могут ловить только призрак, не захотела поцеловать его вот этими губами, чья ласка теперь направлена на пустое воспоминание, умер потому, что ты не захотела подарить себя?