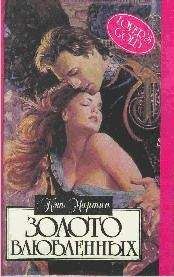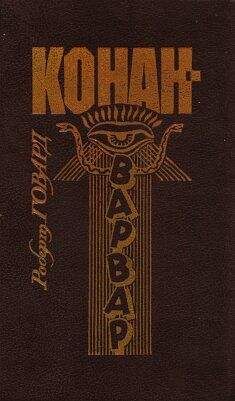Наталья Майорова - Время перемен
После того как вернули его в лесниково хозяйство, он понемногу отошел и даже к весне стал разговаривать, как прежде. Тогда же и про Синеглазку, которую кинулся от обиды спасать, рассказал.
Вот кто постарел, так это Таня с Мартыном. Мартын – ладно, он моего отца немногим моложе. Они с отцом с юности друг друга знали, и судьба, считай, похожая – оба вдовцы, нелюдимы, дочери не удались… Но Таня-то не старая еще, а уже все лицо в мелких морщинках, как старое яблочко, и горб как будто еще больше стал. Жалко ее. Маша говорила, когда Таня в деревню приходит, так собаки с мальчишками за ней по улице бегут – дразнят. Маша им всем, по обыкновению, геенной грозила, а им хоть бы что – очень уж им Танин горб в развлечение…
Груня и Степка – вот тоже как дети, хоть смейся, хоть плачь. Как не могли терпеть друг друга, когда малые были, так и теперь. Степка, как Груню увидит, так морду на сторону воротит и нос морщит, как будто она не глухотой, а холерой больна, и мне слова сквозь зубы цедит (нарочно, чтоб Груня понять не сумела). Если учесть, что я притом ору и руками размахиваю, а Груня либо стоит с раскрытым ртом, либо на Степку шипит и грозится, вид у нас, друзей детства, еще тот получается.
И как я их ни стыжу вместе иль поодиночке – никакого толку. А большевик Арабажин и дядя Митя покойный говорили – классовое сознание, классовая солидарность… Вот Степка и Груня оба крестьяне, где ж их солидарность-то? А с другой стороны глянуть: Камиша-то со Степкой – и рядом их классы не стояли, а как хорошо подружились… Что-то здесь все-таки не учтено, но об этом пускай Арабажин со товарищи заботится, у меня и своих дел хватит с избытком.
А чего со слугами и всеми прочими сделалось, когда я Атю и Ботю привезла!
Только ангел Камишенька на высоте: сначала, понятно, чуть в обморок не грохнулась, потом сказала свое «Мио Дио!», а после уж умильно добавила:
– Какая же вы все-таки счастливая, Любочка! Еще так молоды, а у вас уже такие прелестные крошки! Я обязательно напишу их портреты!
Манеры прелестных крошек легко можно себе вообразить. Когда они поняли, что теперь можно жрать до отвала и никто слова не скажет (напротив, Лукерья старалась им еще и еще куски подсунуть), сразу же оба стали страдать неостановимым поносом и прятаться по этому делу хорошо если под кустами сирени, а то и в кладовках или за занавесками… К тому же если Ботька так и остался наивным и простодушным, то Атька на Хитровке уже подворовывала и здесь у Насти из-под рук пару серебряных ложек стянула…
От греха подальше мы с Марыськой их пока из Синей Птицы изъяли и поместили вместе с дедом Корнеем, который сразу же, как приехал, прибился к огороднице Акулине и ее мужу Филимону.
Глава 20,
в которой происходит свадьба
Свадьба! Свадьба! Свадьба!
По словам Камиши, это самый прекрасный и волнующий момент в жизни девушки. Волнующий – не спорю.
Хорошо, что в Синей Птице так много комнат – всех можно разместить. Александр сначала сказал, что от него гостей не будет, потому что ему нечего праздновать. Я спросила: «А Арайя»? – «Разве это не твой гость?» – удивился он.
Но потом приехали и напросились навязчивые родители Максимилиана, спиритическая помещица Мария Карловна, еще какие-то соседи… После этого Александр как-то оттаял и пригласил дядюшку-историка и своих московских друзей-пифагорейцев. Они мне, в общем-то, понравились – особенно парочка Апрель – Май, про которых я так толком и не поняла, мужчины они или женщины. Арайя уверял меня в том, что они и сами наверняка этого не знают. Шутил, наверное. Хорошо, что он пригласил пифагорейцев пожить в Песках, а то бы даже и у нас комнат не хватило.
Цыгане Яши Арбузова с явным удовольствием (в Москве артисты живут в домах, но родились-то они в вольно кочующем таборе!) раскинули свои шатры на лугу, и все гости постоянно бегали к ним – глазеть. Цыгане давно привыкли, что на них глазеют, и вели себя очень естественно и картинно одновременно. У Камиши в таборе завелось специальное кресло, которое даже не уносили. Когда не шел дождь и не дул ветер, она там сидела и рисовала. Цыганские мужчины и дети глядели с любопытством и охотно позировали. Цыганки Камишу почему-то игнорировали. Степка стоял рядом с мрачной физиономией, вроде бы на подхвате, и охранял ее.
– От кого, Степка? – удивлялась я. – Цыгане вообще не интересуются чужими женщинами, а уж чтобы кто-то из них польстился на Камишины мощи или вздумал украсть у нее кисточку…
Степка только нечленораздельно ворчал в ответ…
Юрий Данилович издалека смотрел на меня с подозрением и щурил докторский глаз, как будто ожидал, что я внезапно заболею корью или начну корчиться в пляске святого Витта.
Аркадий Арабажин приехал с приятелем, в обществе которого встречался со мной в первый раз в трактире. Приятель говорил за двоих, а Аркадий все время молчал, как будто превратился в бревно с глазами. Пифагорейцы пытались взять его в оборот, но безуспешно. Поскольку безделье было ему, по-видимому, органически противно, кончилось тем, что он организовал на заду конторы что-то вроде амбулатории и консультировал там в каморке больных крестьян, в сложных случаях обращаясь за советом к Юрию Даниловичу. Притом деньги оба брать отказывались. Едва ли не первой на консультацию к Арабажину явилась из Торбеевки поповна Маша с жалобой на чирьи. Думаю, что вело ее в основном любопытство. Что там промеж них было, я не знаю, но Аркадий после был какой-то кирпичный и на мой вопрос о Машином здоровье фыркнул, как пес, уткнувшийся носом во что-то непотребное.
Оккупировавшие Синюю Птицу венецианцы Льва Петровича усиленно «создавали свадебное настроение». У них получалось. Спроектированная ими фата – четыре метра длиной (нести ее должны Атя и Ботя, с которыми Анна Львовна проводила специальные занятия), двор с фонтаном почти превратился в площадь Святого Марка, а на Сазанке мне иногда мерещились гондолы.
Привезли из Москвы трех поваров и наняли им пять помощников из деревни.
Акулина плакала: не могли, дескать, отложить свадьбу до осени, когда бы все на ее огородах созрело и поспело.