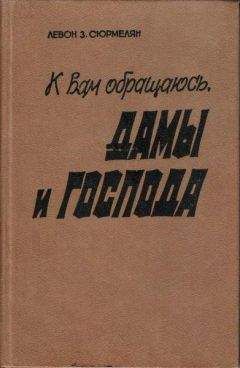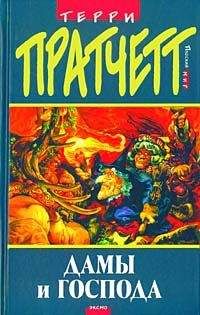Людмила Третьякова - Дамы и господа
— Разрежь и раскрой, — был отдан приказ.
Поляков исполнил, вынул несколько листов бумаги, наложенных сверху, и не успел еще вынуть лежащего в рамке первого портрета, как Варвара Петровна сказала:
— Подай!
Весь ящик был подан и поставлен на стол перед нею.
— Ступай! Дверь затвори!
Рядом с Агашенькой (женой Полякова. — Л .Т.) стояла я в смежной комнате, притаив дыхание… Что-то будет?
При этом скажу, что мы, все домашние, по первому слову, произнесенному Варварой Петровной при ее пробуждении, всегда знали, в каком она духе и каков будет день.
На этот раз все предвещало грозу, и мы со страхом чего-то ждали.
Через несколько времени мы услыхали стук какого-то предмета, брошенного об пол, и звук разлетевшегося вдребезги стекла. Потом удар опять чем-то по стеклу и что-то с силою брошенное об пол, и все затихло.
Конечно, мы догадались, что бросались и разбивались детские портреты.
— Агафья! — раздался грозный голос Варвары Петровны. Агафья вошла. Барыня указала на пол. — Прибери это, да смотри, чтобы стекла не остались на ковре.
Потом двинула на столе ящик.
— Выбросить это, — добавила она.
В эту же зиму все трое детей умерли».
Дочь Тургеневой, свидетельница этой страшной сцены, добавляла к своему рассказу, что это был единственный момент, когда мать снизошла до человеческих привязанностей своего сына. «Ни прежде, ни после, — писала Житова, — никогда Варвара Петровна больше не упоминала о семействе Николая Сергеевича».
После кончины матери, встретившись с уже замужней сводной сестрой, Николай Тургенев со слезами говорил о своем отцовском горе. Больше потомства у них с женой не было. Он очень сокрушался, и вот тогда-то Житова услышала от него:
— On dirait, gue c'est la malediction de maman, gui a amenemes enfants au tombeau. Можно сказать, что проклятие маменьки свело моих детей в могилу.
* * *И.С.Тургенев — П.Виардо:
«Я ничего не видел на свете лучше Вас. Встретить Вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни, моя преданность и благодарность не имеют границ и умрут только вместе со мною».
За границей из-за постоянных разъездов певицы Тургенев часто расставался с семейством Виардо. Томительные недели и месяцы без Полины были заполнены мыслями о ней. Все, что имело к ее имени хоть какое-то отношение, становилось для него интересным. Желая увидеть родину певицы, Иван Сергеевич отправился, как он шутил, «шляться по Пиренеям», начал изучать испанский язык.
С восторгом принял он приглашение супругов Виардо погостить в их имении Куртавнель под Парижем и очаровался романтикой этого места: замком, огромным таинственным парком. В этом обиталище владычицы его сердца ему очень хорошо работалось. В Петербург, в редакцию журнала «Современник», один за другим летели объемистые пакеты. И все с вещами превосходными! Тургенев сам чувствовал это и радовался за себя, за свою способность вдали от родины словно воочию видеть перед собой картины родного Спасского, лица друзей-крестьян, с которыми ходил на охоту, рассказы которых мог слушать часами и восторгаться — восторгаться изумительной выразительностью их языка, естественностью, умом, наблюдательностью и тонким чувством прекрасного, такого неожиданного в неграмотных людях.
Все было как нельзя лучше. Все удавалось. Холодной струйкой в это счастливое бытие вползала только мысль о деньгах. Гонорары поступали неаккуратно, после настоятельных напоминаний, или не поступали вовсе. Матушка денег упорно не слала.
…Весной 1850 года Тургенев получил от Варвары Петровны письмо. Она сообщала, что, продав их слишком большой московский дом на Самотеке, обосновалась в другом — на Остоженке, простом, изящном и уютном. И конечно, этот дом ждет его, «матушкино солнце», — Ванечку. Еще она извещала, что здоровье ее резко ухудшилось, потому ему следует ехать домой безотлагательно, на что она и посылает ему шестьсот рублей денег.
Тургенев вернулся. Дом на Остоженке, с тех пор ничуть, кстати, не изменившийся, ликовал. Был дан большой обед с приглашением московских родственников и знакомых. И все, кто видели любимца хозяйки, могли бы повторить вслед за Ф.М.Достоевским, который с первой встречи был совершенно пленен Тургеневым: «Что это за человек!.. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован… Наконец, характер неистощимо-прямой, прекрасный».
Все соответствовало действительности, кроме богатства. Да какое там! Гости остоженского дома были бы изрядно удивлены, если б узнали, что наследник Варвары Петровны занимает у слуг на извозчика: то рубль, то тридцать копеек.
И вот эта-то окаянная житейская проза, самая что ни на есть обыденная, пошлая, которая, кажется, и краем не должна коснуться таланта такой величины и единственности, как Тургенев, разнесла в клочья и без того шаткое равновесие тургеневской семьи.
Началось с того, что Иван Сергеевич встретился с братом и тот рассказал, в каких тисках нужды ему приходится жить. Матушка пожелала, чтобы он перебрался в купленный ему на Пречистенке дом. Николай Сергеевич оставил пусть мизерные, но все-таки заработки в Петербурге, надеясь, что мать от огромного своего состояния теперь освободит его от забот о куске хлеба насущного. Не тут-то было! Старший Тургенев признавался младшему: «Все, что только можно было продать по мелочи, — продано». Разбившись как-то с женой на дрожках, Николай Сергеевич был вынужден расстаться со своими жалкими накоплениями, задолжал врачам, провизорам. Картина вырисовывалась достаточно ясная.
Что до Ивана Сергеевича, то он тоже уже не сомневался: жить придется от гонорара к гонорару вкупе с поденщиной — переводами.
И братья решили вдвоем обратиться к матери с просьбой «определить им хоть небольшой доход, чтобы знать, сколько они могут тратить, а не беспокоить ее из-за каждой безделицы».
Не нарушая давно заведенных и незыблемых порядков, они после доклада камердинера вошли в кабинет матери.
Против всех ожиданий Варвара Петровна выслушала их спокойно, как будто даже сочувственно и обещала срочным образом решить сыновьи затруднения.
На следующий день в руках Ивана и Николая была бумага, где каждому «назначалось» по деревне. Так называемая дарственная не имела юридического оформления, а потому цена ее не превышала стоимости листа бумаги, на котором была написана.
Когда Иван сказал об этом матери, то услышал:
— Я просто тебя не понимаю, Жан, чего ты еще от меня хочешь? Я отдаю каждому из вас по имению…
Разумеется, Варвара Петровна по своей многоопытности в юридических тонкостях имела дело с десятками, если не сотнями деловых бумаг и прекрасно знала, что ее «подарок» никакой законной силы не имеет.