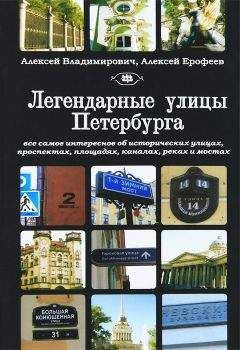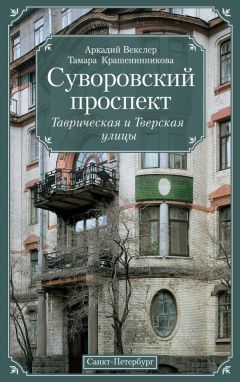Елена Арсеньева - Звезда моя единственная
Кроме покоев императрицы, елки ставили в ближайших залах – в Концертном и в Ротонде. После всенощной перед закрытыми дверьми все дети боролись и толкались, кто первый попадет в залы. Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у детей так и бились сердца радостью и любопытством ожидания. Вдруг раздавался звон… у самых мелодичных часов нарочно переводили стрелки, чтобы дать сигнал… двери распахнуты – и все с шумом и гамом вбегают в освещенный тысячью свечей зал.
Александра Федоровна каждый год сама подводила каждого гостя к назначенному столу и раздавала подарки. От этого восторг был вовсе неописуемым.
Дети покупали подарки для родителей на свои карманные деньги, да и сами одаривали друг друга мелочами, купленными на те же деньги.
И вот настало 17 декабря.
Император с супругой были в театре, где давали «Бог и баядерка» с Тальони.
Сестры страшно огорчались, что их не взяли в театр. Они уже видели Марию Тальони в балетах «Сильфида» и «Дочь Дуная». Она была некрасива, худа, со слишком длинными руками, но в тот момент, как она начинала танцевать, ее захватывающая прелесть заставляла все это забыть. Однако отец счел, что в балете «Бог и баядерка» слишком много говорится о любви, и юным девицам будет неприлично на это смотреть.
Олли и Адини расплакались, Мэри стояла с опущенными глазами. Она боялась поймать взгляд отца, боялась прочесть в нем гнев. И прекрасно понимала, что это запрещение направлено в первую очередь против нее. Поэтому она с трудом изобразила радость от подарков, которые вручили ей сестры.
Невыносимо хотелось плакать от того, что она, уже взрослая женщина, принуждена вести эту полудетскую жизнь, притворяться восторженной дурочкой…
Ну что ж, теперь легче. Теперь она невеста. Через год свадьба с Максимилианом.
Прелестный мальчик… Она снисходительно улыбнулась. И кажется таким влюбленным! И согласен остаться в России.
Отец пообещал ему так много. За что? Это приданое должно улестить его переехать навсегда в чужую страну или оно должно заставить его закрыть глаза на девственную чистоту простыней, на которых он проведет с Мэри первую брачную ночь?
Мэри не хотела об этом думать, гнала от себя эти мысли, но все же слишком часто они возвращались. Выкуп за грех…
Ну что ж, некого винить в этом, некого, только себя. Гриня не коснулся бы ее, если бы она не позвала его.
Она слабо улыбнулась. Что же было в том почти деревенском парне, отчего она никак не может забыть его? Оттого ли, что он первый – и пока единственный! – мужчина в ее жизни? Или оттого, что в ласках его – она чувствовала это даже своим неопытным, хоть и развратным сердцем! – неразрывно слились плотское и духовное, именно то, что люди называют любовью?..
И вдруг так захотелось увидеть Гриню, хотя бы во сне увидеть!
«Приснись мне сегодня! – взмолилась она, чувствуя, как на глаза набегают слезы. – Приди ко мне, утешь меня хотя бы во сне!»
Она с нетерпением дожидалась времени, когда надо было ложиться спать, как вдруг двери в Малый зал, где сестры сидели вокруг елки, распахнулись…
и вошел император в каске и с саблей, вынутой из ножен.
– Одевайтесь скорей, вы едете в Аничков дворец, – сказал он поспешно.
В то же время раздался стук в дверь. Ворвался взволнованный камер-лакей и закричал:
– Горит!.. Горит!..
И все увидели сквозь раздвинутые портьеры, что как раз против Малого зала клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала.
В несколько минут сестры оделись, сани были поданы. Олли вдруг бросилась в свою классную, чтобы бросить прощальный взгляд на все, что ей было дорого, да еще захватила с собой фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу, и выбежала на улицу.
Там ее впихнули в сани вместе с маленькими братьями, и все понеслись в Аничков.
Мэри сидела с неподвижным лицом, Адини плакала…
– Мэри, неужто тебе не страшно?! Неужто не жалко, что все сгорит? – воскликнула Олли.
Мэри молчала.
Она вдруг вспомнила, что в комнатах фрейлин, в шкафу Мари Трубецкой, которая сейчас ехала в отдельных санях с другими девушками из свиты, лежит тщательно запрятанный сверток. Синяя юбка и голубая кофта…
И это тоже сгорит?!
Ах, Боже мой, она совершенно забыла про свои любимые безделушки, что остались на ночном столике.
Они теперь тоже сгорят… как жаль!
И вот Аничков дворец. В семье Николая Павловича его всегда очень любили. Это было гнездо их детства – ведь именно там жили они, пока отец не стал императором. И сейчас было нечто успокаивающее в том, что за спасением они кинулись именно сюда.
Всех устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи. Между часом и двумя приехала Александра Федоровна и сообщила, что есть слабая надежда спасти флигель с покоями самого императора и его жены.
Потом она рассказала, что, когда император в театре узнал о пожаре, он сначала подумал, что горит на детской половине, из-за какой-нибудь елки. Когда же он увидел размер пожара, то сейчас же понял опасность. Со своим никогда не изменявшим ему присутствием духа он вызвал Преображенский полк, казармы которого расположены ближе всех к Зимнему дворцу, чтобы они помогли дворцовым служащим спасти картины из галерей. Великому князю Михаилу Павловичу он отдал распоряжение следить за Эрмитажем, и, чтобы уберечь сокровища искусства, в несколько часов была сооружена стена – единственное, что можно было сделать, чтобы спасти картины, так как нельзя было и думать о том, чтобы выносить их.
Императрица как можно скорей уехала из театра, чтобы убедиться в безопасности детей. Узнав, что все уже в Аничковом, все спасены, она прошла к своей фрейлине Софи Кутузовой, которая была очень больна, и осторожно сказала ей, что ей придется переехать. Александра Федоровна оставалась при ней, пока та перенесла вызванный этой новостью нервный припадок, и не оставила ее, пока не приехал доктор. Только после этого она прошла к себе, где император уже распорядился всем. Книги и бумаги запаковывались, и старая камер-фрау Клюгель заботилась о том, чтобы не оставить безделушек и драгоценностей.
Вслед за тем императрица поехала в дом к Нессельроде, где был приемный день и где весь петербургский свет столпился у окон, чтобы видеть пламя пожара.
А вокруг горящего дворца толпился народ. Все гадали о том, как мог разразиться пожар, и где – в самом Зимнем!
А между тем уже за два дня до катастрофы из отдушины отопления в Фельдмаршальском зале, близ выхода в Министерский коридор, ощущался запах дыма. Говорили, что где-то неисправен дымоход, однако чинить его, полагаясь на русский авось, только собирались, но никак не начинали. Особенно сильно этот запах ощущался днем 17 декабря, затем он исчез и появился вновь только в начале восьмого, вечером.