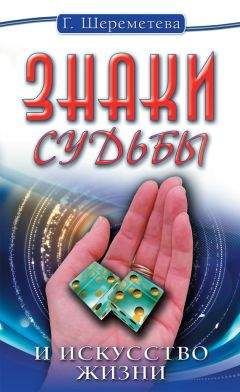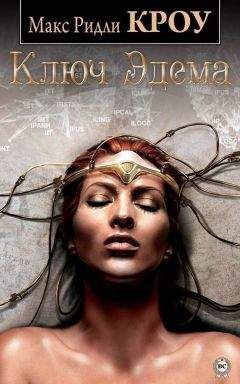Анастасия Дробина - Любовь – кибитка кочевая
– …Ну, и что это такое, я тебя спрашиваю? – мрачно спросил Митро у Кузьмы, когда они оба оказались за воротами, на пустой Живодерке. – Дальше-то ты как собираешься, чаворо?
Не дождавшись ответа, Митро задрал голову, посмотрел на черное, кое-где холодно мерцающее звездами небо, передернул плечами; сдвинув на лоб шапку, поскреб в затылке. Не отводя взгляда от висящей над Большим домом ущербной луны, негромко сказал:
– Видишь сам, какая она у тебя. Сыромятников, поляк этот – это все семечки. Скоро князья-графья понаедут, деньги будут, как икру, метать, золотом сыпать. Что тогда делать будешь? Каждый вечер после ресторана ей бубну выбивать? И бабе несчастье, и хору убытки, и тебе, дураку, тоже нехорошо… С такой цыганкой жить – каждый день себя в узде держать, до старости, до смерти. А ты… Рано, дорогой мой, начал.
Кузьма не отвечал – казалось, и не слышал ничего. В руке у него был огромный ком снега, от которого он жадно откусывал кусок за куском и глотал, не дожидаясь, пока они растают во рту. Митро, заметив это, выругался непотребным словом, что делал очень редко, и ударил по снежному комку так, что тот рассыпался.
– Ума лишился последнего?! Голос выстудишь, сипеть будешь завтра, как чайник!.. – Митро умолк на полуслове, заметив, что Кузьма дрожит с головы до ног. Помедлив, он обнял парня за плечи, притянул к себе. Задумчиво, глядя в сторону, спросил:
– Господи, ну как тебя только угораздило, мальчик, а? Мы ведь до сих пор толком не знаем, кто она, Данка эта… Женился на коте в мешке, и даже в башку не забрело подумать немного!
– Что толку думать, Трофимыч? – хрипло, не поднимая головы, отозвался Кузьма. – Ты вот мне завтра скажи, что она вместо мужа с полком солдат жила, – я все равно никуда от нее не денусь… Не могу я, понимаешь? Не знаю почему… Сам все думаю, уже башка скоро сломается, но… не могу.
Митро долго молча смотрел на Кузьму. Потом, слегка хлопнув по спине, отстранил его и сказал:
– Пойдем-ка со мной.
– Куда? – немного испуганно спросил Кузьма.
– Увидишь. Да не бойся ты: не пороть же мне тебя, в самом деле… – И Митро, не оглядываясь, зашагал по пустой, посеребренной лунным светом улице вниз. Кузьма помедлил немного, зачем-то оглянулся на дом, но тот стоял темный, без единого огня. А Митро уже был далеко впереди. Кузьма тихо, тоскливо выругался и пошел по оставленной им цепочке следов.
В заведении мадам Данаи горел свечами весь нижний этаж. Митро поднялся на крыльцо, бухнул кулаком в дверь, та широко распахнулась, и в освещенном проеме замелькали напудренные, улыбающиеся лица девиц.
– Здравствуйте, Дмитрий Трофимыч, давно не были, заходите! Вот мадам рада будет! А, и Кузьма Егорыч… Ну – с возвращением вас!
Весна в этом году пришла в Смоленск поздно. Таборные измучились, глядя в низкое, сумрачное зимнее небо, из которого весь март падало и падало холодное крошево, и, казалось, конца-края этому не будет. Цыгане уже всерьез интересовались у старой Стехи, не грядет ли конец света с вечными холодами, та полусердито бранилась:
– С ума посходили, голоштанники?! Конец света – это когда гром гремит и небо пополам разваливается, а оттуда ангелы с серафимами высыпаются и сам Господь на них сверху падает со своим престолом золотым в обнимку! А это что? Так, снежок с неба… Скоро кончится.
– Где же скоро-то, пхури,[43] а? – уныло спрашивали цыгане. – Апрель на носу, а все по сугробам на Конной прыгаем… Так ведь и июль наступит…
– А наступит – значит, такое на вас, жуликов, наказанье божье наслано! И на меня, старую дуру, с вами вместе! Вам что – есть нечего? Или водку всю в городе выпили? Нет?! Ну, так допивайте, пока можно, и Бога не гневите! Будет вам весна вскорости… На той неделе ростеплеет. Истинную правду говорю, драгоценные, – позолотите ручку!
Цыгане грохнули хохотом и до самого вечера вспоминали Стехино гадание. Но то ли старая цыганка знала какие-то древние приметы, то ли просто удачно попала со своим пророчеством – через пять дней снежные тучи уползли за Днепр, выглянуло теплое, яркое солнце, и по городу побежали ручьи. Потемнели и просели, словно обмятое тесто, сугробы на улицах и площадях, загомонили в голых, влажных ветвях деревьев птицы, в прозрачном синем небе без конца орали, носясь над крестами церквей, вороны, на реках и речушках, пересекающих город, вспух серый лед, через неделю он треснул, и по черной весенней воде поплыли величественные льдины. Не успел закончиться ледоход, а косогоры уже чернели протаявшей землей, из которой на глазах лезла молодая трава и желтые пупырышки мать-и-мачехи. Цыгане бродили по городу с шальными глазами, без шапок, в распахнутых кожухах, подставляя грудь свежему ветру, растирали в пальцах набухшие почки верб и берез, втягивали носами влажный, теплый воздух и, встречаясь друг с другом, улыбались и мечтательно обещали: «Скоро, морэ… Вот уже скоро…»
Тронуться с места должны были сразу же, как в степи вылезет трава: лошадям нужен был подножный корм. Солнце стояло в небе, не заслоняясь ни одним облачком, вторую неделю, упругие зеленые стебли и листья росли как на дрожжах, выбираясь из-под заборов, камней и куч мусора, деревья покрылись золотисто-зеленой дымкой. И в один из вечеров дед Корча вышел из дома на крыльцо, посмотрел на небо, на землю, на толпу цыган, молча стоящих во дворе, и, пряча в бороде улыбку, сказал:
– Что ж, ромалэ… Будем трогать помаленьку. Завтра собираемся, а послезавтра – с богом, в дорогу. Да хозяевам заплатить не забудьте, черти, не то другой зимой не впустят!
Когда дед закончил свою речь, цыгане заорали от восторга так, что из соседних домов повыскакивали их русские обитатели, уверенные, что в таборе начинается очередной скандал. Но цыгане уже мчались по своим дворам, истошными воплями призывая жен:
– Эй, Глашка! Симка! Нюшка, дура! Живо узлы вяжите, бесталанные! Послезавтра едем!
На другой день цыганская улица кипела. Во всех дворах полоскались вывешенные на веревках для уничтожения зимнего духа одеяла, на крыше жарились подушки и перины. Женщины носились по дворам с посудой, начищая медные сковородки, оттирая закопченные в печи котлы, всюду шла стирка, уборка перед отъездом, проветривание и сборы. Мужчины сидели по сараям, проверяя упряжь, осматривая кибитки: почти в каждом дворе стояла, задрав оглобли, как руки к небу, старая колымага, под которой озабоченно копошились отец семейства с сыновьями. Застоявшиеся в конюшнях лошади чувствовали радостную суету людей, призывно ржали, молотили копытами в стойла, угрожая разнести их в щепки. Повсюду бегали дети – голоногие, в грязи до колен, с перьями от подушек и ранними цветами в волосах. Жители Смоленска, проходя через бурлящую, как вода в котле, улицу, поглядывали через заборы на цыган и добродушно посмеивались: