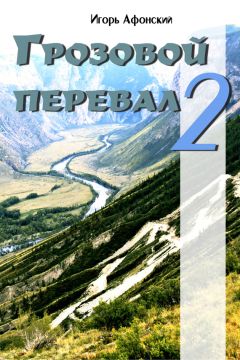Эмили Бронте - Грозовой перевал
— Фи, барышня! — перебила я. — Можно подумать, что вы никогда в жизни не раскрывали Евангелия. Если бог поражает ваших врагов, этого должно быть достаточно для вас. И низко и самонадеянно прибавлять от себя мучения к тем, которые посылает он.
— Вообще-то я и сама так думаю, Эллен, — продолжала она, — но какая мука, выпавшая Хитклифу, может мне доставить удовлетворенье, если он терпит ее не от моей руки? По мне, пусть лучше он страдает меньше, но чтобы я была причиной его страдания и чтобы он это знал. О, у меня большой к нему счет! Только при одном условии этот человек может надеяться на мое прощение: если я смогу взыскать око за око и зуб за зуб; отплатить за каждую пытку пыткой — унизить его, как унижена я. Он первый начал наносить обиды, пусть же первый взмолится о пощаде! А тогда… тогда, Эллен, я, возможно, проявлю великодушие. Но и думать нечего, что я когда-нибудь буду отомщена, — значит, я не могу его простить. Хиндли попросил пить, и я подала ему стакан воды и спросила, как он себя чувствует.
— Мне не так скверно, как я желал бы, — ответил он. — Но стоит мне протянуть руку, и каждая частица моего тела так болит, точно я дрался с целым полком чертей!
— Да, немудрено, — добавила я. — Кэтрин, бывало, хвасталась, что она вам «оградой от телесного ущерба»: этим она хотела сказать, что некоторые особы не смеют вас задевать из боязни оскорбить ее. Хорошо, что люди не встают на самом деле из могилы, а не то прошлой ночью ей пришлось бы сделаться свидетельницей отвратительной сцены! Нет на вас синяков? Грудь и плечи у вас не изодраны?
— Не знаю, — ответил он. — Но почему вы спрашиваете? Он посмел бить меня, когда я упал?
— Он вас пинал, и топтал, и колотил вас головой о пол, — сказала я шепотом. — С пеной у рта — точно хотел рвать вас зубами; потому что он только наполовину человек, даже меньше, — остальное в нем от дьявола.
Мистер Эрншо стал снизу, как и я, следить за лицом нашего общего врага, который ушел в свое страдание и не сознавал, казалось, ничего вокруг: чем дольше стоял он, тем яснее черты его лица выдавали черноту его помыслов.
— О, если бы небо дало мне силу задушить его в моей предсмертной судороге, я пошел бы с радостью в ад, — простонал Хиндли и рванулся встать, но в отчаянии снова упал в кресло, убедившись, что сейчас не в силах бороться.
— Нет, довольно, что он убил вашу сестру, — сказала я громко. — В Скворцах все знают, что она была бы сейчас жива, если бы не мистер Хитклиф. Его ненависть, пожалуй, предпочтительней его любви. Когда я вспоминаю, как все мы были счастливы — как счастлива была Кэтрин до его приезда, — я готова проклясть тот день!
По всей вероятности, Хитклифа больше поразила правда, заключавшаяся в сказанном, чем злоба говорившей. Его внимание, я видела, пробудилось, потому что из глаз его закапали в пепел слезы и сдавленное дыхание вырывалось затрудненно. Я посмотрела ему прямо в лицо и рассмеялась с презрением. Затуманенные окна ада вспыхнули на мгновение, обращенные ко мне; однако черт, глядевший из них обычно, был, казалось, так далек — за тучами и ливнем, — что я не побоялась еще раз громко рассмеяться.
— Встань и уйди с моих глаз, — сказал горевавший.
Я угадала, что он произнес эти слова, хотя голос его был еле различим.
— Извините, — сказала я, — но я тоже любила Кэтрин; к тому же ее брат нуждается в уходе, в котором я, уже ради нее, не откажу ему. Теперь, когда она умерла, я вижу ее в Хиндли: у Хиндли в точности те же глаза, хоть вы и стараетесь их выбить и сделали их из черных красными. И те же…
— Встань, жалкая идиотка, пока я тебя не затоптал насмерть! — закричал он и сделал движение, побудившее и меня подняться.
— Впрочем, — продолжала я, приготовившись убежать, — если бы Кэтрин, бедная, доверилась вам и приняла смешное, презренное, унизительное звание миссис Хитклиф, она вскоре являла бы собой такую же картину! Она-то не стала бы молча терпеть ваши гнусные выходки: высказала бы открыто, как вы ей ненавистны и мерзки.
Спинка скамьи и тело мистера Эрншо составляли преграду между мной и Хитклифом, так что, не пытаясь добраться до меня, он схватил со стола серебряный нож и запустил мне в голову. Острие вонзилось около уха и пресекло начатую фразу; но я вытащила нож и, отскочив к дверям, кинула другую, которая, надеюсь, ранила его поглубже, чем меня его нож. Я успела увидеть, как он рванулся в ярости, но Эрншо перехватил его; и они, сцепившись, повалились оба на пол перед очагом. Пробегая через кухню, я крикнула Джозефу, чтоб он поспешил к своему хозяину; я сшибла с ног Гэртона, который, стоя в дверях, вешал на спинку стула венок из маков; и, ликуя, как душа, вырвавшаяся из чистилища, я прыгала и скакала и неслась под гору по крутому спуску дороги; но дорога все извивалась, и я бросилась напрямик полями — скатывалась с косогоров, шлепала по болоту — мчалась, как на маяк, на огни Скворцов. И я скорее пошла бы на вечные муки в аду, чем согласилась бы еще хоть одну ночь провести под крышей Грозового Перевала…
Изабелла замолчала и выпила чашку чая; затем поднялась, велела мне надеть на нее шляпу и большой платок, принесенный мной; и, не слушая моих уговоров посидеть у нас еще часок, она встала на стул, поцеловала портреты Эдгара и Кэтрин, потом и меня на прощание и сошла к карете в сопровождении Фанни, неистово визжавшей от радости, что опять нашла свою хозяйку. Так она уехала и больше никогда не появлялась в этих местах. Но когда все понемногу улеглось, между ею и моим господином установилась регулярная переписка. Поселилась миссис Хитклиф, кажется, где-то на юге, под Лондоном; там у нее через несколько месяцев после побега родился сын. Его окрестили Линтоном, и она с первых же дней отзывалась о нем, как о болезненном и капризном создании.
Мистер Хитклиф, повстречав меня как-то в Гиммертоне, спросил, где она живет. Я не сказала. Тогда он обронил фразу, что это и не важно, только пусть не приезжает к брату: не жить ей у Эдгара Линтона, если ее законному мужу понадобится взять ее к себе. Хоть я ничего ему не сказала, он узнал через других слуг, и где она проживает и о том, что родился ребенок. Однако не стал ее преследовать: благо, которым она была обязана его отвращению к ней. Он часто спрашивал о мальчике, когда видел меня; и, услышав его имя, мрачно усмехнулся и спросил:
— Они хотят, чтобы я и его возненавидел, да?
— Думаю, они не хотят, чтобы вы хоть что-нибудь знали о нем, — ответила я.
— Но он будет моим, — сказал он, — когда я захочу. Пусть не сомневаются.
К счастью, мать ребенка умерла раньше, чем пришел тому срок: лет через тринадцать после смерти Кэтрин, когда Линтону было двенадцать с небольшим.