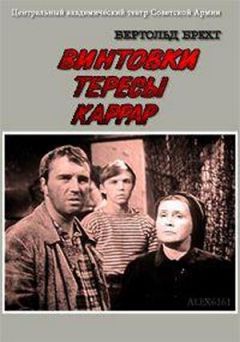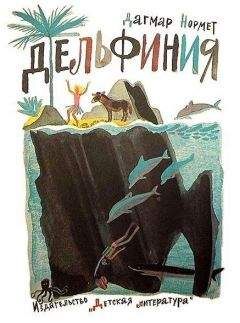Дагмар Эдквист - Гости Анжелы Тересы
Однако как теперь, так и тогда, женщины поклонялись божественному младенцу у нее на руках и в трепете перед мистерией рождения припадали к ее стопам.
А до Изиды, вероятно, существовали богини-матери — мощные, древние, врата самой жизни.
Как много здесь было старых, скорбящих женщин. Они тянулись к излучающей свет молодой матери с младенцем на руках, они получали у нее утешение, на некоторое время сами становились юными и счастливыми.
Почему же Анжела Тереса не…
Эстебан.
Люсьен Мари догадывалась о ее лояльности сверх всякой меры по отношению к самому любимому сыну и его непонятным идеям.
Женщин среднего возраста почти не было. Им наверно было недосуг, с их подрастающими детьми и хлопотами по хозяйству, но две-три молодых девушки стояли на коленях и молились, горячо, страстно, ничего не замечая вокруг себя. От каких печалей любви искали они утешения у девы Марии?
Было там и несколько беременных женщин, грузных, тяжелых, погруженных в драму своего ожидания.
Волна горячей крови вдруг поднялась внутри Люсьен Мари, окатила ее с головы до ног. Да — у нее тоже имелась своя причина обратиться к Младенцу с молитвой. Благоговейно войти в единение матерей.
Уже второй раз у нее не было месячного очищения. В первый раз она решила, что это от нервного напряжения и вообще от самого ее желания иметь ребенка. Делать анализы, чтобы с помощью опытов на мышах ей научным путем определили, как и что, ей не хотелось. Она решила уповать на старые приметы, выждать некоторое время — полное смутных предчувствий, перемежающееся приливами то надежды, то страха. Она еще не говорила об этом с Давидом. Иногда она по его взгляду видела, что с его губ готов сорваться вопрос, но мгновение проходило, а они так и не решались об этом заговорить.
Так много другого занимало ее в эти шесть недель. Совершенно новый образ жизни. Давид. Анжела Тереса. Часто она себе говорила: это просто мое воображение, я же ничего абсолютно не чувствую. Я совершенно забыла об этом.
Разве забыла? О нет, не совсем, ни на минуту даже не забывала. Но и поверить она тоже не могла.
Но в это мгновение, в этой общности со всеми женщинами вокруг нее, неопределенность превратилась внезапно в полную уверенность. Несколько минут она чувствовала себя совершенно ошеломленной. От страха? От радости? У этого чувства не было названия. Просто ошеломленной. Земля у нее под ногами покачнулась, свечи кругом затуманились. Звуки доносились издалека.
Она прошептала себе, тому, кто был в ней, внутри ее: ах, как бы мне хотелось побыстрее тебя увидеть. Уж скорей бы. Какой ты? Какая ты?
Да, я догадываюсь, что ты есть, я уверена в этом. Я уже дышу тобой. Спи, моя крошка, в своем красном гроте. Плавай, моя рыбка, в своем теплом море. А я буду так тебя оберегать, так тебя лелеять. Чтобы всегда тебе было тепло и мягко, и ступать постараюсь полегче, чтобы ни одного толчка ты не ощутила.
О Господи, как же мне дождаться твоего первого движения? Твоего первого легкого знака, что ты уже есть?
Потом она пришла в себя. Взгляд ее опять обратился к тем двум, таким грузным, таким тучным, и она мысленно их спросила: ну, как вы? Как вы относитесь к своему положению? Что это для вас — счастье или горе, или всего лишь только немое стремление растения — созреть и дать семена. Как бы мне хотелось, чтобы вы рассказали, что вы чувствуете!
Внезапно в нос ей ударил запах ладана, восковых свечей и запах соседки. У нее слегка закружилась голова, и она, взяв свою корзинку, вышла на улицу.
Несколько мгновений Люсьен Мари просто стояла, глубоко дыша, пока не почувствовала себя лучше. Но, обогнув угол и собираясь перейти площадь, она опять ощутила, как мостовая у нее под ногами закачалась, и она испугалась, что упадет в обморок прямо на улице. Она огляделась кругом в поисках какого-нибудь убежища, но ничего не нашла, кроме лавочки Жорди.
Там было прохладно и полутемно, жалюзи он опустил. Ни одного покупателя.
Она оперлась на прилавок и спросила:
— Можно мне присесть на минутку?
Жорди взял ее за локти и усадил на свой единственный стул; для своих личных нужд он использовал его как стол, а вообще покупатели садились на него, чтобы примерить туфли.
— Посидите, я сейчас, — заспешил он, взял глиняный кувшин, быстро сходил на площадь, наполнил его свежей, холодной водой из источника и дал ей попить.
— Какой вы добрый, — взглянула она на него с благодарностью.
— Ну вот еще, — отмахнулся он, как будто и слышать не хотел об этом.
Когда она собралась уходить, Жорди пошел ее проводить и взял довольно тяжелую корзинку.
— А как же лавка? — спросила она.
— Покупателей наверно все равно не будет, — ответил он с горькой беззаботностью.
Она подумала: вот идиотка, могла ведь у него что-нибудь купить… Нет, хорошо, что этого не сделала. Гордость Жорди была как духовный воздухоочиститель, она, как огнем, выжигала всякую попытку отнестись к нему покровительственно. Поэтому воздух вокруг него был таким чистым.
Они двинулись дальше, молча, разговаривать им не хотелось. Жорди хорошо понимал ее, когда она говорила по-французски, но предпочитал объясняться с ней при помощи жестов или одного-двух лаконичных испанских слов.
Подойдя к мосту через реку, они встретили Давида. Тот даже вздрогнул: ему еще не приходилось видеть Люсьен Мари в обществе мужчины. Жорди, как испанец, сразу же уловил его чувства, слегка улыбнулся, приветственно помахал рукой и, передав ему корзинку, хотел уйти, предоставив Люсьен Мари объясниться самой.
— Нет, не уходите! — воскликнули они оба одновременно на разных языках, а Давид прибавил:
— Не хотите взглянуть, как мы там устроились?
Все это время Жорди ни разу не подавал о себе вестей. Он не навещал Анжелу Тересу. В первый же день после переезда Давид направился в город, чтобы немедля отыскать Руиса и узнать, почему Жорди арестован и что можно сделать для его освобождения. Но, как оказалось, Жорди опять сидел в своей лавочке, его выпустили так же неожиданно и без объяснений, как и арестовали.
Давид вошел тогда, поздоровался с ним за руку и предложил выпить рюмочку за свободу. Однако Жорди опять находился в своем апатичном и вместе с тем напряженном состоянии, когда человек ничего не воспринимает, кроме того, что его мучает. То, что его вот так, время от времени сажали в тюрьму, постепенно его ломало, на каждое пребывание там наслаивался еще и стыд. Он понимал, что Давид хочет ему добра, но не мог с собой совладать. Не только потому, что участливость Давида оскорбляла его гордость. В душе своей он был настолько испанцем, настолько лояльным к своей родине, что для него было просто невыносимо самому служить поводом для гнева и критики иностранцев, тем более, что он был совершенно беспомощен.