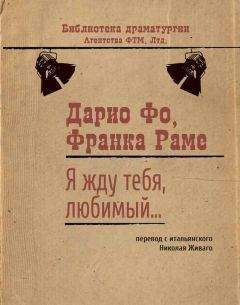Анастасия Туманова - Не забывай меня, любимый!
Первый день табор ехал без остановки, опасаясь погони из Москвы. На вторые сутки все поняли, что догонять цыган некому, а усталые лошади едва-едва держатся на ногах. Цыгане остановились, разбили шатры посреди безлюдного поля в нескольких верстах от Подольска, зажгли костры. Час спустя на месте одного из костров, самого большого, где немного оттаяла уже смёрзшаяся земля, начали копать могилу. К вечеру возле свежего холма, на котором стоял сбитый из обструганных палок крест, расстелили скатерти и уселись на поминки. А наутро, ещё до света, по свежему снегу, оставив позади угасшие пятна кострищ и могилу под белым от налипших снежных хлопьев крестом, табор тронулся дальше. Кочевье должно было давно закончиться, лошади уже мучились, добывая пожухлую траву из-под слоя снега, с каждым днём делавшегося всё толще и прочнее, и цыгане спешили в Смоленск, на привычный зимний постой.
Илья сидел на половике у гаснущего костра, смотрел на пустую дорогу и сразу же увидел одинокого всадника, приближающегося к табору. Старый цыган обеспокоенно поднялся, но, узнав прибывшего, вполголоса чертыхнулся и сел обратно, уставившись на огонь. Несколько минут спустя заполошный лай собак подсказал Илье, что Митька уже подъехал и спешился.
Табор был пуст: женщины ушли в город, мужчины потянулись следом – покрутиться по базару и узнать новости. Дарья, ещё плачущая, но уже пришедшая в себя настолько, чтобы понять: и себя, и дочь нужно как-то кормить, – отправилась вместе с цыганками. В таборе остался один Илья – сторожить добро и приглядывать за внучкой, которая металась в жару по перине, шепча потрескавшимися, сухими губами незнакомое мужское имя. «Ты её не слушай, ни к чему тебе, глупости болтает», – предупредила мужа, уходя вместе с другими, Настя. Илья, разумеется, битый час просидел рядом с Диной, пытаясь разобрать её лихорадочный бред. Понял он мало что, но даже от этого немногого настроение испортилось. И на подходящего к костру Митьку, который вёл в поводу красивого рыжего жеребца, Илья взглянул без всякой радости.
– Явился – не запылился… Какого чёрта?
– А то не знаешь, какого, – с досадой произнёс Митька, отбрасывая повод коня и садясь на корточки рядом с затягивающимися пеплом углями.
Теперь вместо «комиссарской» тужурки и фуражки со звездой на Митьке была цыганская рубаха, кожух с обрезанными рукавами, латаные-перелатаные штаны и великолепные новые сапоги. На пристальный, вопросительный взгляд Ильи он ничего не ответил, отвернулся, начал раскуривать папиросу. Глядя в серое поле, сквозь зубы спросил:
– Поесть нечего?
– Бабы вернутся – поешь. Твоя Юлька вместе с ними ушла, – Илья поворошил палкой угли, кинул на них сверху охапку хвороста, и тот разом занялся сильным пламенем. – Ответишь ты мне аль нет, собачий сын: кой леший тебя опять принёс?!
– Леший, чёрт… Деваться-то надо куда-то или нет?! – вскинулся Мардо. – Не в Москве же оставаться было! Из меня там мигом Советы ремней нарежут – после того, как я четверых ихних положил…
– Неужто не отбрехался бы? – с ехидным изумлением поинтересовался Илья. – Они ж тебе дружки, поверили б. Мог бы на цыган всё повернуть…
Мардо, кинув на него злой взгляд исподлобья, опустил голову. Мрачно проговорил:
– Сроду я своих не подставлял… А вот поглядел бы я, морэ, как бы вы без меня в Москве-то выкрутились! Комиссар внучка твоего первым бы положил, следом – эту дуру Динку вместе с матерью её. Ну, скажи, что не так!
– Может, мне тебе ещё в ножки поклониться? – поинтересовался Илья, отчётливо понимая, что этот паршивец прав.
– Обойдусь как-нибудь, – не поднимая глаз, буркнул Мардо. – Но уж из табора-то не гони. Слово даю, как только можно будет – уйду.
– Ты цыган. Живи, сколько надо тебе, – тоже глядя в сторону, сказал Илья. – Я матери твоей слово давал. Только и ты подумай: я свою семью берегу. И так беда за бедой сваливается, уж сколько лет спокойной жизни нету, а тут ты ещё… За каким рожном тебя вовсе к гаджам понесло?! – взорвался он наконец так, что рыжий Митькин жеребец, всхрапнув, с опаской отошёл в сторону. – Мы все думали: ворует себе где-то по-человечески, картами промышляет… Юлька вон день ото дня ехать искать тебя рвалась, измучилась баба… А он вон куда – в комиссары подался! Если б я тебя своими глазами в этой красной звезде да при ливольверте не увидал – никому б на слово не поверил… Как ты в начальники протыриться сумел?!
– Так за два-то года много чего было, – хмуро отозвался Митька.
И, взглянув на его потемневшее, неподвижное лицо, Илья понял, что больше Мардо ничего не скажет.
– Оставайся, сколько надо тебе, – повторил старый цыган, глядя на прыгающие по корчащемуся хворосту жёлтые язычки огня. – Хоть Юлька рада будет.
– Я не пустой приехал, – Митька пружинисто вскочил на ноги, отошёл к рыжему, стянул с седла кожаный мешок, дёрнул развязку – и под ноги опешившему Илье хлынул золотой дождь.
– Дэвла… Где собирал-то?.. – растерянно спросил Илья, присаживаясь на корточки возле вороха украшений, рассыпавшихся по жухлой, примятой траве. Здесь были потемневшие от времени браслеты с бирюзой и гранатами; бриллиантовые серьги с длинными подвесками, старинные броши, игравшие на тусклом вечернем солнце гранями изумрудов, жемчуг и кораллы, вделанные в платину, несколько тяжёлых портсигаров с выложенными на крышке узорами из камней…
Митька только жёстко усмехнулся, пододвинув сапогом к общей куче несколько откатившихся колец.
– Где взял, там уж нету…
– С мёртвых снимал? – в упор спросил Илья.
– Не знаю, с кого снимали, не моя работа, – отрывисто произнёс Мардо. – Лучше не брезгай, Илья, времена нынче не те.
– Ладно… Отъедем подале – продашь. Хотя что сейчас за это дадут… – Илья поднялся, некоторое время наблюдал за тем, как Мардо складывает обратно в сумку драгоценности, мельком подивился: как Митька не боялся ехать с этим добром от самой Москвы, когда кругом аресты да обыски… И всё-таки не удержался:
– Мать твоя святая была. Отца я не знал, но только хорошее про него слыхал. В кого ты таким, сукин сын, уродился на мою голову?..
– Роза мне не мать, – по-прежнему глядя в землю, проговорил Митька. – Забыл, что ль?
– Помню… – Илья встал и ушёл к лошадям.
Из шатра донёсся стонущий голос Дины: она очнулась и просила пить. Митька нерешительно огляделся, увидел стоящее у костра ведро, черпнул из него жестяной кружкой и вошёл в шатёр.
Дина лежала на перине, запрокинув голову и закрыв глаза. На её лбу отчётливо видны были крупные капли пота.
– Что с тобой, чяёри? – обеспокоенно спросил Митька, садясь рядом. – Заболела, что ль, с перепугу?
– Дай пить, ради Христа… – прошептала, не открывая глаз, Дина.