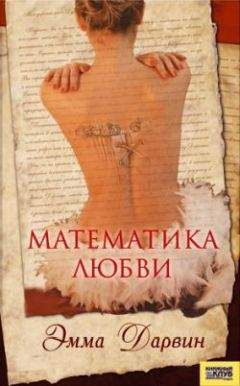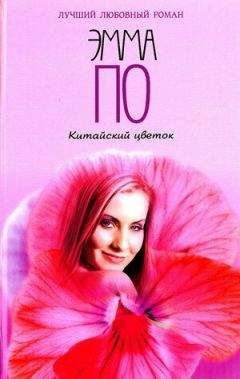Эмма Дарвин - Тайная алхимия
— При Бленгейме в тысяча семьсот четвертом году, при Рамильи в тысяча семьсот шестом году, при Ауденарде в тысяча семьсот девятом году, при Мальпаке в тысяча семьсот девятом году, — ответил он.
— Спасибо, — сказала я, записав все это.
— Урок истории? — спросил он, подходя к «арабскому» прессу и пуская в ход педаль. Раздался треск, пресс остановился, и дядя Гарет вздохнул.
— Да, — ответила я. — Мисс Бофорт страстно увлекается датами. Он не работает?
— Нет. Заело, и я не понимаю почему. Боюсь, придется его разобрать.
— Хочешь, я посмотрю? Я имею в виду — не разбирая его на части.
— Ну, если ты можешь дотянуться, чтобы выудить своими милыми маленькими ручками то, что там застряло, я буду очень благодарен, — сказал дядя Гарет, подходя к раковине в углу, чтобы смыть с рук машинное масло и чернила. — Это так неудобно — собирать все заново под нужным углом, а мы не можем позволить себе попусту тратить рабочее время. Я бы попросил Марка, но он вышел.
Как будто даже работа знала свое место в общем расписании, «вандеркук» закончил печатать, и в тишине я услышала квохтанье кур, стук лопаты дяди Джорджа на грядке с овощами, а в отдалении — свисток поезда. Наверное, из Лондона шел двенадцатичасовой, на котором ехали Лайонел и Салли.
— Я могла бы посмотреть после ланча, — сказала я, — или сейчас. На ланч только холодный окорок с салатом, поэтому тетя Элейн не будет возражать, если ты скажешь ей, что дело срочное. Я не буду делать со станком ничего кардинального, только посмотрю, в чем проблема.
Когда мальчик закончил работу с «вандеркуком», надел куртку и ушел — по субботам он работал до половины дня, — дядя Гарет зажег сигарету, снял фартук и отдал его мне.
— Будь осторожна: проследи за тем, чтобы его обездвижить, оторванные пальцы нам не нужны.
Потом он прибрал всякий хлам, оставшийся после утренней работы, и ушел в дом на ланч.
Должно быть, это было в мае или июне. Я знаю, что было тепло, ни единого дуновения ветерка не ворошило бумагу и не вносило в мастерскую пыль, портящую свежую типографскую краску. Я оставила дверь открытой, подперев ее, и вернулась к «арабскому» прессу. Если я буду работать достаточно медленно и найду причину, почему он застрял…
Я сосала кровавый волдырь и ругалась себе под нос, когда в проеме двери появилась чья-то тень.
— Как дела? — спросил Марк.
— Прищемила палец, — ответила я, вставая. — Сидела на корточках, пока шарила среди рычагов и пружин пресса.
— Хочешь, я посмотрю? — спросил он.
Я протянула палец, и он внимательно осмотрел его, как всегда делал дядя Роберт. Маленький темно-пурпурный волдырь болел куда сильнее, чем следовало.
— Если ты сильно сожмешь палец, кровотечение остановится и потом он не будет таким опухшим, — сказал Марк, похлопав меня по руке. — Жаль, что у нас… у вас нет холодильника. Лед очень помогает. А что ты пыталась сделать?
— «Арабский» заклинило, — ответила я. — Винт упал в пружину под красящим валиком. Я его вижу. Думала, что смогу вытащить. Но его заклинило.
Марк сбросил куртку, подошел и нагнулся над креслом наборщика. Потом присел и вгляделся внутрь пресса.
— В тени трудно рассмотреть. — Он попытался дотянуться внутрь, но проем был слишком узким.
— Может, если бы у меня было что-то тонкое, вроде спицы, — сказала я, — я бы ввела ее туда и вытащила эту штуку.
— Хорошо. Я разберу его, если ты не сможешь вытащить. Не отвлекай мистера Приора от обеда.
Но когда я вернулась с набором бабушкиных вязальных спиц — ее наставления не погнуть их и не поцарапать все еще звенели у меня в ушах, — Марка в мастерской не было.
— Раздобыла! — крикнула я, но он не появился.
Потом я увидела, как его тень шевельнулась на фоне света, падавшего из окна кладовой, и услышала тихий стук, как будто он поставил на полку пачку книг.
«Наверное, „Беовульфа“ вернули из переплетной», — подумала я.
«Арабский» станок стоял в тени между двумя окнами, и Марк был прав — нельзя было как следует рассмотреть, что делается внутри пресса. Перепачкав краской руки, я встала. Солнце светило в спину, и мне нужна была лампа из кладовой.
Когда я туда вошла, Марк стоял спиной к двери, прислонившись к одной из стоек. Только пройдя мимо него и потянувшись, чтобы снять лампу с гвоздя, я увидела, что он закрывает руками лицо, потому что плачет.
Я застыла. Никогда еще я не видела, чтобы знакомый мне мужчина — член семьи — по-настоящему плакал.
На мгновение я подумала, что лучше оставить его тут, но кладовая была такой маленькой, что я не могла ускользнуть, притворившись, будто ничего не видела.
— Марк? — Я положила руку ему на плечо.
Он потянулся и притянул меня к себе так же машинально, как я обычно прижимала к себе медвежонка Смоуки, если просыпалась после ночного кошмара. Его рука была твердой и так стиснула меня, будто что-то внутри меня могло ему помочь. Я была настолько ниже Марка, что его ключица впилась в мою скулу. Дыхание его было тяжелым и неровным, как будто он пытался совладать с ним. Я ощущала запах твида и сигарет дяди Гарета, и запах пота Марка, и еще нечто, что — я знала даже тогда — было запахом мужчины. Мое плечо было прижато к его боку, моя грудь — к его ребрам, мой живот — к его бедру.
Я ожидала, когда мне начнет становиться все более неловко, но ничего подобного не произошло. Мне хотелось стоять так всегда.
Внезапно Марк меня отпустил.
— Прости.
Я посмотрела на него снизу вверх.
Прядь волос падала ему на лоб, она была золотой в зеленоватом, пробивающемся сквозь древесную листву свете из окна.
— Ты в порядке? — спросила я и поняла, насколько глупо прозвучал вопрос. Но вместо смущения почувствовала только странное головокружение.
— Я ходил повидаться с папой, — ответил он.
— О! — Что следовало говорить в подобных случаях?
— Ты знаешь… знаешь, что он не дома?
— Ммм… Да.
— Похоже, я спрошу твою бабушку, не смогу ли я дольше тут пожить.
Я знала, что больше он ничего не станет говорить. Я посмотрела на Марка, на его лицо в зеленоватом свете, на его сощуренные глаза, не смотревшие на меня. Мне хотелось приложить ладони к его лицу, туда, где он закрывал его руками, чтобы согреть его щеки, на которых застыли слезы.
Потом он мутным и пустым взглядом снова посмотрел на меня, как будто хотел, чтобы я не произносила ни слова.
Но вопреки этому взгляду я ясно поняла, что случилось со мной. Как будто кто-то, вроде Бога, сказал это вслух: теперь, если Марку будет больно, будет больно и мне, если он будет смеяться, и я буду смеяться и буду счастлива только тогда, когда будет счастлив он.