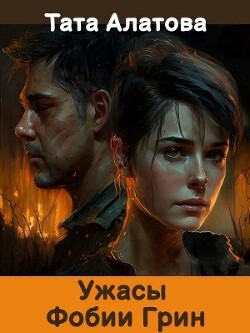Дочь атамана - Алатова Тата
— Но вы-то здесь, — выдохнул он в полном блаженстве, разморенный, разомлевший, — вот и торопился… к вам.
Алым полыхнуло ее лицо, заблестели глаза, задрожали губы.
— Мазь ведьмина, — пролепетала Саша Александровна, старательно отводя взор, — коей вы меня от ожогов лечили… поможет ли от обморожения?
Он кивнул на шкапчик с множеством ящичков:
— В нижнем…
Она порывисто вскочила, достала фаянсовую баночку, открыла ее, принюхалась.
— Не та ли, что с мороком? — спросила озабоченно. — Вам только безобразной морды сейчас не хватало…
— Ту вы на себя извели, — он засмеялся, закашлялся, утер рукой кровоточащий рот.
Наклонился и, не стыдясь ее присутствия, скинул обувку, позволяя теплу возвращать его ногам чувствительность.
Саша Александровна только головой покачала.
— Как дите малое, — с ворчливостью своей кормилицы проговорила она, села рядом и начала наносить мазь на его лицо. Сразу защипало, и Гранин зажмурился. Ее дыхание блуждало по его скулам, подбородку, лбу, и кровь вскипала в жилах, полноводной рекой грозя снести все преграды.
Ты старик, напомнил он себе, дряхлый старик. Куда тебе гоняться за молодостью и невинностью, постыдился бы.
Но ни его тело, ни его разум не желали стыдиться — они взбунтовались, жаждали прикосновений. Обнять, прижать, ощутить Сашу Александровну, вдохнуть ее запах, услышать стук сердца.
Почувствовать и себя живым.
Не открывая глаз, Гранин на ощупь перехватил ее руку и прижался горячим поцелуем к пульсирующему запястью, туда, куда не целуют кавалеры, а только любовники.
Саша Александровна всхлипнула, обмякла и прислонилась лбом к его плечу, теплая, трепещущая, нежная. Неумело, позабыв, как это делается, он обнял ее, бережно и легко.
— Я вот думаю, — прошептала она едва слышно, — может, напрасно все… Может, такова моя доля — отправиться к канцлеру добровольно, и будет что будет.
— Грех это, — отозвался он мягко, ничуть не удивившись. — Нельзя тягаться с Господом, пусть все вершится волей его. Вы же убьете не только себя, а и отца своего, и деда.
— Но мама… но мальчик…
— В участи вашей матери нет вашей вины, и в участи маленького Андре тоже. Думаю, что канцлер слишком отдался темному колдовству, оттого все его дети рождаются столь слабыми. То, что вы пышете здоровьем, — это чудо, Саша Александровна, а еще неукротимая кровь Лядовых. И мы сохраним это чудо любой ценой, иначе все теряет свой смысл.
Он не хотел сейчас говорить про старика лекаря, но она и сама вспомнила про него.
— Ваша правда, — пробормотала жалобно, — не должно же быть впустую столько лет заточения! Это очень дурно, что я так сильно хочу жить?
— Это прекрасно, — Гранин улыбнулся, поцеловал ее в макушку, баюкая и укачивая.
Саша Александровна вздрогнула, ощутив невесомый сей поцелуй, встрепенулась, выпрямилась, отодвинулась, смутилась и затеребила края расхристанной по обыкновению косы.
— Я… прошу прощения за моего деда, — запинаясь, сказала она, на глазах превращаясь в благовоспитанную барышню. — Не знаю даже, что он вам наговорил, но это пустое все, суетное. Должно быть, он поставил вас в крайне неудобное положение.
— Василий Никифорович удивительный человек, — ответил Гранин. — И любит вас до беспамятства.
Она помолчала, глядя поверх его плеча.
Строгая, повзрослевшая, серьезная и отрешенная.
— Что же теперь будет? — спросила без страха, но и без интереса. С обреченностью.
— Не знаю, — ответил Гранин, — поживем — увидим.
Глава 21
Снился Саше гибкий, смуглый до черноты юноша.
Происходящее было затуманено, укрыто молочной дымкой, но отчего-то она все понимала.
И то, что юноша — не хозяин больше себе.
И то, что страшный человек, вырвавший его из родного дома, Саше — дед.
И что другой, тот, к чьим ногам бросили юношу, очень зол. Она чувствовала липкий страх невольника, знала, что его накажут, — потому что был он подарком-насмешкой, пощечиной. И вдруг юноша оглянулся, посмотрел прямо Саше в глаза, стремительно старея, матерея, обрастая курчавой бородой и морщинами, и стал страшен и зловещ. «Я выковал себе меч, что разрушит мои оковы», — донесся глубокий гортанный голос, и Саша проснулась, мокрая от пота и слез.
Ее била крупная дрожь от неведомого ранее ужаса, и, раненой птицей бросившись на колени, на пол, под образа, она торопливо зашептала молитву.
Этот сон не был похож на обыкновенный, хлопотливый. Было в нем что-то глубинное, как в тот раз, когда она увидела лекаря и поняла, что ему плохо и нужна помощь.
Застыв на холодном полу и не замечая ледяных сквозняков, Саша думала об одном: лишь бы не в руку, лишь бы не в руку. Она не сумела бы объяснить, о чем именно просит и почему так потрясена, это не поддавалось разуму, а пугало изнутри.
В ее голове одновременно были все они — и юноша, вдруг ставший хищником, и лекарь, чья судьба ей по-прежнему была неизвестна, и Михаил Алексеевич с его шершавыми, кровящими губами, обжегшими ей запястье.
Ах, если бы она могла защитить всех обиженных на этой земле, утешить униженных, обнять несчастных! Нести добро, как нес его лекарь, — безропотно и не ожидая награды. Не поднимать кнут, а одаривать милостью.
Но Саша казалась себе так мала, так незначительна, что от этого слезы струились по лицу еще пуще. Размазав их наспех ладонями, она поднялась с колен, взывая к крови своей.
Крови степных атаманов, которые не прятались от врагов, а выходили в поле и бились до победы или последнего вздоха.
— Приходите, — сказала Саша громко, отчего Марфа Марьяновна за стенкой всхрапнула и заворочалась. — Все приходите! И черт, и канцлер, и колдун его. Никого не боюсь, никому не поддамся!
И так ей стало спокойно после произнесенного, что она снова вернулась в постель и безмятежно заснула, ни о чем более не тревожась.
Утром Саша долго крутилась перед зеркалом, разглядывая себя так и этак.
Хороша?
Так себе?
Глупа?
Умна?
Локоны или косу?
Корсет или простенький наряд?
Для Михаила Алексеевича хотелось быть — красавицей.
Но жеманство претило ее натуре.
И она, стоя в одной сорочке посреди спаленки, все примеряла на себя столичных модниц.
Понравился бы кто из них ее управляющему?
И ругала себя за пустоголовость.
Неужели она старалась бы ради человека, которому важны фижмы и жемчуга?
Для чего унижает Саша себя и его, умаляя ту душевную близость, что невесомой паутинкой протянулась меж ними?
Не показалось же?
Ведь правда же было?
Он спешил к ней и чуть не околел от холода.
А она кормила его с ложечки и плакала от нежности и от того, как сильно ей было жалко Михаила Алексеевича. И Кару, конечно.
Разругавшись с собой, Саша тут же с собой помирилась, откинула прочь корсет и презрительно отвернулась от пышных юбок.
И весь завтрак не могла удержать улыбки, и чудилось ей свое отражение в весенних его глазах.
Изабелла Наумовна изволила дуться, и Саша, как всегда после вспышек гнева, истово к ней подлизывалась. Она даже пообещала прочитать целую книжку, пусть и не всю, но хоть половину, ну парочку страниц наверняка.
— Ты мое самое большое поражение, — скорбно ответила гувернантка, — чтобы оправиться от подобного провала, мало нескольких вымученных страничек! Ступай-ка ты, Саша, к деревенскому старосте и передай, что буду учить крестьянских детей грамоте.
Саша изумленно захлопала ресницами. Будь она крестьянским ребенком, ни за что бы не согласилась на подобное душегубство, но мириться с Изабеллой Наумовной надобно было, и она немедленно отправилась, куда послали.
Сбегала к модистке Ани, выпросила у нее несколько отрезов ситца, пообещав взамен заказать в городе все, что та пожелает, хоть парчи, хоть бархата.
Кликнула Шишкина да и понеслась к старосте.
Тот от такого предложения только крякнул, однако ситец забрал, пообещав раздать его бабам.