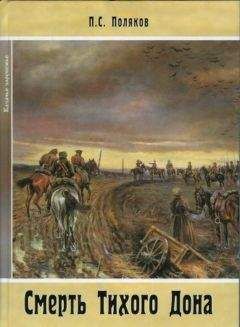Катерина Мурашова - Пепел на ветру
– Да хватит уже!
– Маменька твоя, братец, видит в тебе единственный смысл жизни, а это обременительно. Но ты привык и не понимаешь – как это чертовски важно, когда тебя так любят! Как это ценно и как редко встречается!
Морщась, он оглядел темноватое помещение, в котором они сидели, будто в поисках того самого, кто мог бы так любить. Алекс, проследив за его взглядом, усмехнулся:
– У тебя, что ли, матери нет?
– Моя мать, – уважительным тоном сообщил Макс, – сочиняет произведения для детей. И… ну, меня любит, разумеется. Впрочем, разве мы обо мне? Нарочно сбиваешь! Слушай, Алекс, давай уже выпьем за здоровье твоей маменьки! Ведь признайся, ты ее таки любишь и один не проживешь… Ну не злись! Я бы и сам не прожил, будь у меня…
Когда стемнело, дождь все-таки начался. Полил было сильно, но быстро утих и превратился в вязкую морось – уже надолго. В глухом дворе старинного дома на Мытной стояли лужи, и было так темно, что найти дверь Алексу удалось не с первого раза. Хотя должен был на ощупь помнить, тем более что хмель из головы, пока шел под дождем, почти выветрился.
На лестнице тоже было темно и стоял какой-то противный запах, вроде как химический, сразу почему-то напомнивший о вокзальном сортире. И дверь квартиры была полуоткрыта, хотя в такую пору мать никогда не держала ее незапертой.
– Слава те господи, явилися! – Из кухни выплеснулся тусклый свет и за ним – хозяйка, у которой они снимали, низенькая, широкая, в многослойных платках и шалях. Затараторила торопливо и невнятно, будто перекатывая во рту леденец: – Я нешто нанялась тут дожидаться? Нешто других дел у меня нет? Ффу, а винишшем-то разит, батюшки вы мои! Вот и довели мать-то, как есть довели! Вот она помрет теперь, так я же вас с квартиры-то выгоню! А что держать-то, когда платить все одно не будете! Ведь не будете платить, а?
Алекс молча прошел в комнату, огляделся. Потом обернулся к хозяйке, которая, вкатившись следом, продолжала что-то говорить.
– В Голицынскую отвезли?
– …Я нешто припадочная, в убыток себе держать жильцов… А? Что спросил? Туда, туда и повезли. А может, и еще куда. Я нешто спрашивала? У меня дел-то за неделю не переделаешь, а тут сиди жди не пойми чего! Так вы мне, сударь, скажите вот сейчас как есть: платить-то будете? Будете платить? Или мне жильцов искать? Так я ж прямо завтра и начну, квартира хорошая, долго пустая не простоит…
Она все говорила и говорила, уверенно и храбро, но на всякий случай пятилась поближе к дверям – кто ж его знает, этого угрюмого юнца. Еще, гляди, и шею свернет.
Калужская губерния, имение Синие Ключи, 1900 год– Грех, барин, – уверенно заявил лесник Мартын, надвигая на лоб вытертый лисий треух.
Эту шапку, когда-то ярко-рыжую, но давно уже пегую, он носил зимой и летом. При любом затруднении хватался за нее – или надвигал поглубже, или стаскивал и начинал вертеть. Без шапки Мартын был мелкий лысоватый гном, а в шапке – солидный гриб вроде подберезовика, не очень еще и старый.
Николай Павлович Осоргин медленно оглядел сосну, перед которой они стояли. Этому дереву сравнялось лет двести, и было оно в самом расцвете: ровный красноватый ствол, пушистые ветки, просторно раскинутые над усыпанной старыми иглами полянкой, только на самом краю которой, куда не доставала сосна, теснилась трава с желто-лиловой мать-и-мачехой.
– Пожалуй, грех, – согласился Осоргин.
– Так и разговору конец, – радостно встрепенулся лесник. – Пусть себе стоит как стояла.
– Однако я ведь обещал старосте, – с сомнением возразил Николай Павлович.
– Так и что? Не его же обещали, свое! А свое и есть свое: вчера бери, сегодня самому занадобилось. Или не так?
Он так горячо убеждал, что и в самом деле невозможно было усомниться: нельзя рубить это прекрасное дерево! Ему еще жить и жить. Такой урон лесу! Да и просто – грех.
Осоргин уже привык к тому, что лесник может убедить его практически в чем угодно. Впрочем, тот этим своим талантом редко пользовался. Только в серьезных ситуациях. Например, когда барин сказал однажды нянюшке Пелагее, что содержать взрослого душевнобольного без надлежащего присмотра опасно, а есть хорошие санатории, где за ним будет и контроль, и уход. Узнав об этом, Мартын мигом собрался, натянул шапку на самые глаза и на утренней заре явился в усадьбу. Осоргин принял его не в конторе, а в гостиной, говорил недолго, и упоминаний о больнице после того больше не было.
Вот и нынешний повод лесник, очевидно, посчитал серьезным. А что ему с той сосны? Осоргин не спрашивал, поскольку понимал. Это было очень удобно: делать или не делать что-то, потому что понимаешь, а не потому что положено. Редкое удовольствие. Николай Павлович его ценил, оттого и не торопился уходить с поляны.
Солнце поднималось, лесные запахи становились горячими и смолисто-сладкими. На ствол сосны спланировал поползень; заметив людей, стремительно пробежался снизу вверх и улетел.
– Другое дерево им подбери, – сказал Осоргин. – Раз уж обещал.
– Да вы разве обязаны?..
– Они думают, что обязан.
– Они ду-умают! – с превеликим осуждением протянул Мартын. – Они думают, что еще в крепости живут. И что барское дело им носы вытирать. А учить на конюшне – нельзя, нет: свобода!
Плюнул и махнул рукой. Осоргин усмехнулся.
– Темный ты, брат. Мракобес.
– Экое словцо. Мракобес! Привяжется теперь. При Филе бы не брякнуть. А то ведь он живо напридумает себе мрачных бесов да под лавкой их и отыщет.
– Много придумывал в последнее время?
– Да… – Мартын посомневался секунды две. – Ясно, как же без этого. Я-то не слыхал, Танюха сказывала: будто является к нему… не кто иной, а сама Синеглазка.
Осоргин поморщился, сообщение ему явно не понравилось.
– Кто же ему рассказал про нее?
– Да некому. Барышня разве? Нет… точно, она не говорила. Если вот и впрямь являлась… Синеглазка-то. Она может.
Он был совершенно серьезен в своем предположении, и Николай Павлович выслушал его так же серьезно, не выказав ни тени досады.
– Вот только Синеглазки нам не хватало. Но что делать, с мифологическим персонажем не поспоришь.
Бросив последний взгляд на сосну, он пошел-таки прочь с поляны – к широкой просеке, откуда было рукой подать до лесникова дома.
За минуту наползла туча, и, пока Николай Павлович дошел до избы, весенний день потерял краски, сделавшись хмурым и тревожным. Жилище лесника, выстроенное просторно и основательно, в этом тусклом свете показалось дряхлым и осевшим, будто придавленным тяжелой кровлей. Осоргин не хотел сюда идти, и нужды в его визите никакой не было. Однако это дело – как раз из тех, что положены. Так он решил когда-то давно, а сомневаться в однажды решенном было не в его обычае.