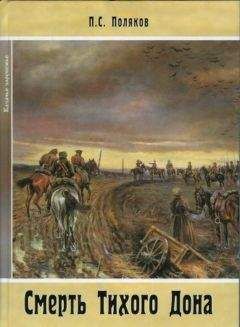Катерина Мурашова - Пепел на ветру
Сашенька же, разглядев наконец мать, состроил гримаску.
– И вам также добрый день, – ровным холодным голосом проговорила Татьяна Ивановна, неторопливо расстегивая шубу.
Таким тоном она всегда разговаривала с родственниками – а перед нею был именно один из них… да это и посторонний бы понял, увидев рядом его и Сашеньку. На первый взгляд они отличались друг от друга только мастью: в потомке князей Кантакузиных изрядно сказалась южная кровь, а на бледном лице его товарища даже зимой просвечивали веснушки, и светлые кудри торчали в разные стороны совершенно неаристократическим образом.
Поняв, что на него гневаются, Максимилиан Лиховцев небрежно пригладил волосы, выпустив при этом Сашенькин воротник. Чем лишил приятеля точки опоры – тот пошатнулся, ударился плечом о стену и выругался… очень тихо, почти беззвучно, но Татьяна Ивановна, увы, прекрасно расслышала.
– Извольте отправляться домой, милостивый государь, – велела она белобрысому. – А ты, мой друг…
– Я ухожу вместе с Максом.
Сашенька поднял на нее взгляд. Прекрасные темные валашские глаза – совершенно лишенные выражения. Точь-в-точь как у Николая Павловича Осоргина.
Шестнадцать лет – время первых соблазнов. Разумеется, спиртное принес в дом этот Лиховцев.
Она дождалась, когда их топот стихнет на лестнице, и прошла в комнату сына, чтобы найти и выбросить бутылку из-под вина. За последние месяцы ей приходилось делать это всего раза три. Совсем не часто для матери взрослеющего сына. Ребенок, господи, он же совершенный ребенок… И как он будет без нее?!
Нет, она даже теперь не разрыдалась. Уж держаться так держаться, а то ведь эту истерику стоит только начать!
Взявшись прибирать художественный беспорядок, она снова начала вспоминать поездку в Синие Ключи. Солнце на сосновых стволах, ряд белых колонн, громко тикающие часы с кленовыми листьями… Сухопарая фигура Николая Павловича, замороженный взгляд его блекло-голубых глаз…
Они поладят, подумала Татьяна Ивановна очень спокойно. Непременно поладят. Но для верности надо сделать еще один визит… Тоже нелегкий…
Москва, июнь, 1899 год– Что чувствовали жители Константинополя, когда по ромейским мостовым скакали всадники Османа? Когда время вытекало из рук, как вода? Вот вы – что вы чувствуете сейчас?
Максимилиан, распознав, что вопрос профессора обращен к ним, сделал понимающее лицо.
– Это ужасно.
– А я не чувствую ничего такого, – заявил Александр, хмурясь, будто говорил против воли. – В смысле, конца. Наоборот – я чувствую, что у России великое будущее.
Михаил Александрович Муранов сокрушенно поморщился. Недавно мать Александра и его собственная троюродная сестра Татьяна (когда-то он был в нее даже немного влюблен) явилась к нему после десятилетнего перерыва и то умоляла, то грозила: ее единственный сын должен стать модным и финансово состоятельным юристом, не увлекай его попусту своей историей! Какая вредная чушь, думал Муранов, мать не может распоряжаться судьбой уже почти взрослого сына! С чего это вообще взбрело ей в голову!.. Смотрел на кузину, когда-то хорошенькую, и почти не узнавал ее. До чего ж она похудела и… да, подурнела, чего уж там! Выглядит почти старухой, а ведь ей и сорока еще нет… Мог бы и пожалеть ее, согласиться для виду, что перестанет принимать дома младшего племянника, вести с ним исторические беседы, но почему-то невпопад разволновался, обиделся за свою науку и начал было в чем-то убеждать Татьяну… Она заявила, что и не ждала ничего иного от Мурановых.
И вот теперь каждый раз, когда видит обоих юнцов, профессор Муранов ощущает какое-то неясное беспокойство, совершенно, против обыкновения, не касающееся исторических штудий. Как будто что-то нужное не сделано…
– Знаешь что, – хмуро сказал Александр, глядя на темно-зеленые портьеры, за которыми скрылся дядя, – пойду-ка я домой.
– С чего вдруг?.. Ну хочешь – иди! Только что ты там делать будешь? Давай тогда уже в кабак пойдем!
– На твои деньги? – Кузен саркастически скривил рот. – Ха!
– Да ладно! Что, у тебя и двугривенного не найдется? У Юдовского в долг накормят…
– Щи да каша пища наша. И водка из чайничка. – Алекс поднялся рывком. – А что, пошли. Не с дядей же чай пить…
На улицах мела тополиная поземка, солнце мелькало сквозь рваные облака. Дождь, собиравшийся с утра, из-за ветра так и не пролился. Когда вышли на Пречистенскую набережную, Макс начал жадно вдыхать воздух, полный влажного речного запаха, и радостно жмуриться:
– Ой, как я это люблю! Слушай! А не махнуть ли нам на Волгу? Чертову уйму лет прожили, а великой русской реки еще не видели!
Алекс и отвечать не стал на такую ерунду. Макс ответил себе сам, огорченно вздыхая:
– Эх, не выйдет! Родные и близкие нас не поймут. Мои-то еще – может быть, если денег просить не стану… А что… Вот поехали бы на Волгу, нанялись бурлаками, как на репинской картине, посмотрели бы наконец изнутри жизнь народа, а то талдычат все, талдычат… Но уж тетенька Татьяна Ивановна не поймет точно!
Алекс опять ничего не сказал, только усмехнулся, уже не раздраженно, а откровенно зло. Волю злости он дал уже в трактире:
– Надоело! Уже оправдывайся перед дядей, почему я хочу заниматься историей! С какой такой стати? А знаешь с какой? – Он развернулся к кузену, глядя почти с ненавистью – не на него, правда, а на картину в раме за его плечом, на которой переливалось темными красками фламандское изобилие фруктов и дичи. – Потому что она к нему ходила!
Он говорил негромким, но каким-то особенно резким голосом – от соседнего стола на них обернулись. К счастью, по дневному времени народу в трактире было немного. Впрочем, если уж Алекс не обращал внимания на народ, то Максимилиан и подавно.
– Что? Твоя мать к Михаилу Александровичу? Да брось!
– Я тебе говорю! Ходила меня позорить…
– Да не поверю я – чтоб она, и к нам… Хотя… что с того? Знаешь, братец, я давно хотел с тобой поговорить… но вот на трезвую голову как-то не выходит. Так я попробую заказать, а?
– Водки нам не подадут, и не мечтай. Только позориться.
– Тьфу, заладил про позор! Вот спорим, подадут? Мне подавали.
Макс откинулся назад и защелкал пальцами, подзывая полового.
Спорить Алекс не стал – и так было ясно, что проиграет. Когда это Макс не добивался своего? Спустя полчаса, уже не сказать что на трезвую голову, он слушал кузена, говорившего, против обыкновения, обстоятельно и осторожно:
– …Я понимаю, тебе не нравится, что ограничивают твою свободу. Мне бы тоже не понравилось. Но вот представь… представь: ты возвращаешься домой, а ее нет. Представь! А?