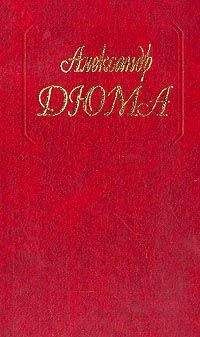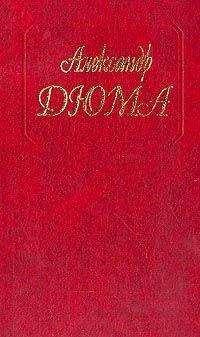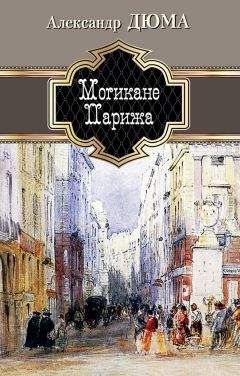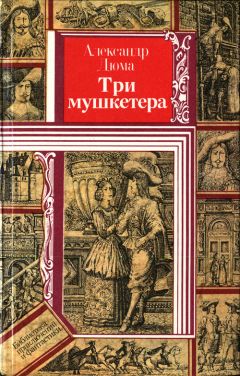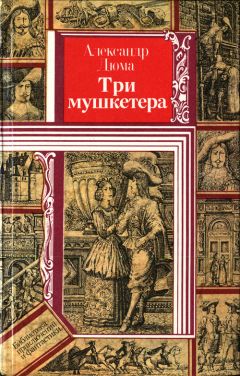Александр Дюма - Парижские могикане
— Значит, в Париже и в Ла-Буе молоко разное, — вежливо предположила девочка, почтительно выслушав утверждение хозяев дома.
И в ее словах было столько неоспоримой истины, что никто не посмел ей возражать.
Поспешим заметить, что на следующий день Мина, увидев, что для нее нарочно приготовили суп, преодолела отвращение к неведомому напитку, предложенному ей накануне, и выпила его с мужеством, достойным восхищения.
В этом грустном доме ее удивил не только завтрак. Например, в тот самый вечер, как она впервые очутилась здесь, ей перед сном повязали голову косынкой, а ведь она привыкла спать не только с непокрытой головой, но и с распахнутым настежь окном; что же говорить об унылых стенах, словно источавших тоску и окутывавших ею все, будто плотным покровом.
Все изумляло ее: серые обои в комнате сестры, бурые занавески в спальне матери, суровое выражение лица молодого учителя, его голос, темная одежда, старинные пожелтевшие книги; все ей представлялось мрачным, даже виолончель; она разрыдалась, когда в десять часов вечера, засыпая в своей постели, вдруг услышала впервые ее звук.
Впрочем, благодаря замечательному характеру она не принимала все это близко к сердцу; она знала только деревенскую жизнь и, наделенная здравым смыслом, вполне допускала, что в городе все влачат столь же жалкое существование, как ее новые знакомые.
Итак, она себя убедила и в глубине души решила подчиниться законам полумонашеского существования бедного семейства.
Но, пожив немного в четырех сырых стенах, Мина — вольное дитя лугов и равнин — почувствовала, что ей не по силам то, к чему она сама себя приговорила: ни характер ее, ни возраст не позволяли ей принять эти грустные правила; у нее был слишком живой взгляд, в жилах ее текла слишком молодая и горячая кровь, ее юный голосок был слишком звонок, чтобы она могла вдруг приказать своему радостному голосу, похожему на утреннюю песнь жаворонка, утихнуть; своей крови, этому обжигающему соку юности, — течь помедленнее; своим глазам, сияющим звездам своей души, — угаснуть совсем или потускнеть. Как она ни сдерживалась, у нее из груди то и дело вырывался искренний, веселый, похожий на песню смех, и тщетно она пыталась подавить радость — это сокровище детства, которое она носила в своей душе.
Однажды она полола траву в сыром, мрачном дворе, вполголоса напевая мелодию, слышанную когда-то в родных краях. Тут в окне появилась сестрица Селеста; нож, который бедняжка Мина держала в руках, выпал, она побледнела и задрожала всем телом.
Забыться до такой степени казалось ей чудовищным святотатством — все равно что громко говорить в церкви.
В другой раз она осталась одна в комнате учителя, служившей, как помнят читатели, классной. Она раскладывала старинные книги, говорившие на непонятном ей языке и вызывавшие в ее душе почтительный трепет. Вдруг она заметила в углу виолончель, которую Жюстен не успел убрать в футляр.
Уже давно девочка ждала случая рассмотреть ее поближе.
И вот, когда она оказалась наедине с таинственным инструментом, ее охватили противоречивые чувства.
Она еще испытывала смутную неприязнь, памятуя о первом впечатлении, произведенном на нее печальными звуками виолончели, и была не прочь открыто проявить эту неприязнь.
Вместе с тем она не могла подавить в себе любопытство, сходное с тем, что заставляет детей просить показать им «птичку», живущую в часах. Ей не терпелось узнать, что происходит внутри у виолончели, когда проводят смычком по струнам.
Она, верно, и сама не могла бы определить, какое из двух ее чувств — любопытство или жажда мести — было сильнее.
Мы, будучи в пять раз старше ее, с уверенностью можем сказать, что в ней говорило любопытство. Мы беремся это утверждать хотя бы потому, что дальнейший ход событий подтверждает наше предположение.
Она кончиками пальцев взялась за лежавший на стуле смычок и, подкравшись к виолончели, принялась водить им по серебряным струнам, извлекая пронзительные звуки. Учитель, возвратившийся за какой-то забытой на столе бумагой, отворил в эту минуту дверь и неожиданно возник на пороге.
Никогда, дорогой читатель, никогда, возлюбленная читательница, никогда со времен первой грешницы, которую ангел-хранитель Рая застиг с поличным на воровстве в райском саду, — никогда розовые щечки под светлыми кудрями не заливал такой густой румянец!
Сердечко несчастной девочки стучало как у раненой птички!
Жюстен поспешил ее успокоить; он с улыбкой взял ее руку в свою и почти силой заставил провести смычком по струнам.
Но из-за пережитого страха неприязнь сиротки к несчастному инструменту переросла в лютую ненависть.
Мы только что назвали вас «возлюбленной читательницей», о прекрасные глаза, оказывающие нам честь читать эти строки. Знаете ли вы, почему мы любовно выбираем для вас самые изысканные эпитеты? Потому что вы как женщина способны переживать и понимать нежные и тонкие чувства. Мы же хотим, чтобы вы употребили свое влияние на наших читателей-мужчин, слишком нетерпеливых и готовых обвинить нас в том, что мы впадаем в идиллический тон.
Позвольте же нам открыть нашу мрачную драму этим вступлением, полным благоуханного цветения юности, ибо очень скоро мы подойдем к описанию страстей и преступлений, свойственных зрелому возрасту.
Не правда ли, вы позволите нам, возлюбленная читательница, еще хоть немного погулять вместе с вами по лугам, усеянным маргаритками и лютиками, послушать пение птиц и насладиться свежестью журчащих ручейков?
XX
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Описанные нами происшествия, равно как и другие, подобные им, отнюдь не настроили членов новой семьи Мины против девочки. Напротив, все это лишь утвердило Жюстена и его сестру в мысли, что бедная сиротка добра и сердечна. Они не наказывали Мину, а поощряли проявления ее очаровательной натуры, которые вносили луч радости в жизнь обитателей дома. Они старались обратить ее обязанности в удовольствия, превращать каждый ее день в праздник, ведь они, эти славные люди, понимали, что детство — это одно сплошное воскресенье!
Но мать была слепа, сестра часто болела, все трое перебивались с хлеба на воду.
Старшие могли одарить малышку только своей печалью; и тогда девочка по милости Бога стала дарить их своей веселостью.
В конце концов она забрала в их доме такую власть и так изменила всю их жизнь, как бывает лишь в природе с приходом весны: унылая жалкая лачуга будто переродилась; так мало-помалу невидимые соки пробуждают почки, заставляют распускаться листья и цветы.