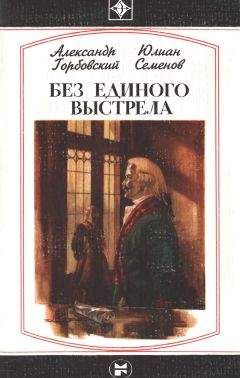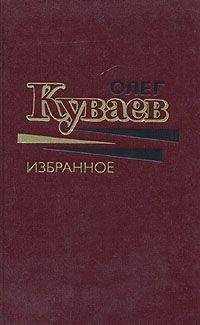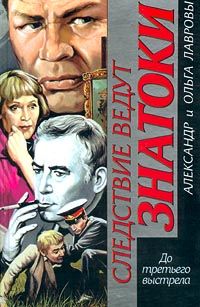От выстрела до выстрела (СИ) - Чеснокова Юлия Олеговна "AlmaZa"
Столыпин «раскусил» невесту, быстро поняв, что её вспышки капризов — это проверка для него. Он не был уверен, что она сама осознаёт эту причину, но убедился в искусственной намеренности Ольги, когда всякий раз, стоило уступить ей и сделать так, как она хотела, Оля расслаблялась и делалась совершенно простой и милой. Петя никогда не понимал, отчего многие мужчины противятся выполнить какое-то мелкое женское желание, противятся поступиться чем-то ради них, устраивают скандалы, пытаются «воспитывать» и «вразумлять», «дрессировать» жён, ведь стоит быстро и беспрекословно подчиниться — и девушка совершенно преображается, успокаиваясь и ни с чем больше не приставая. Пете, однако, нравилось, когда Оля что-то требует именно от него. Не от другого, не от братьев или отца, а от него — своего жениха. Этим она лишь подтверждала, что в душе, где-то под поверхностью, признала за ним ответственность за себя. Он должен был заботиться о ней, о её развлечениях, радостях и удовлетворении желаний, она вверяла ему себя понемногу, не замечая, как сама себя всё глубже и глубже заводит в эту чащу вроде бы ещё не романтических, но уже не дружеских отношений. И Столыпина умиляло, что Оля в своей девической наивности даже пытаясь быть хитрой не становилась такой, а лишь вредничала и дула губы, если очередная шалость срывалась и Петя не выходил из себя, не злился, не третировал её, а с улыбкой произносил: «Как скажешь, Оленька». Он знал, что рано или поздно, не будучи по природе язвительной и невыносимой, она сдастся и угомонится, превращаясь в чудесную жену. Но это произойдёт только при условии, что он будет идеальным мужем, не подливающим масла в огонь.
Они съели по фирменной котлете «по-палкински» и заказали на десерт пломбир. В зал вошёл большой, тучный человек с одышкой, лет сорока, и, идя мимо их столика, задержался, чтобы поприветствовать Петра и пожать ему руку. Столыпин представил ему Ольгу, поспешив подчеркнуть:
— Моя невеста, Ольга Борисовна Нейдгард.
— Какое дивное создание!
— Оля, это Алексей Николаевич Апухтин, наш с братом знакомый.
— Здравствуйте, — улыбнулась она привычной светской улыбкой, но, когда он удалился, поинтересовалась: — Что ещё за Апухтин?
— Поэт, ты не слышала?
— Нет.
— Меня с ним познакомил Саша, а он завёл знакомство где-то в литературных кругах, не то в одном из журналов, где печатал свои стихи, не то через других знакомых. Алексей Николаевич тоже из Орловщины, приятный человек — захаживал к нам несколько раз.
— Прочти что-нибудь из его стихов, — попросила Оля.
— Это лучше бы вышло у Саши, — попытался отмахнуться Петя.
— Неужели совсем ничего не помнишь? Не верю! Давай же, читай! — она смотрела на него в ожидании. Хотела очередного усилия с его стороны. Или чтобы он развлёк её? Не вспомнит — проявит слабость.
— Сейчас, дай подумать, — сосредоточился Столыпин, ища в памяти хоть слово, чтобы зацепиться и от него уже нанизать строчку за строчкой. Как же там было?.. Глаза Ольги, невероятно голубые от падающего с улицы света, лучились озорством. Глядя в них, Петя ощутил такое блаженство, такую волну теплоты от драгоценного присутствия любимой девушки, что строфа воссоздалась:
Мне не жаль, что тобою я не был любим, —
Я любви недостоин твоей!
Мне не жаль, что теперь я разлукой томим, —
Я в разлуке люблю горячей…
У него сковало горло под конец четверостишья, до того он прочувствовал всё, что было заложено поэтом. Произнесённое под перекрещенными взглядами прозвучало надрывно и метко, и хотя Столыпин сдерживал рвущуюся страсть, считая её до свадьбы неприемлемой, Ольгу опалило затаённое пламя. По спине у неё прошлись мурашки.
— А дальше? — шепнула она.
— А дальше, я надеюсь, разлук у нас не будет.
— Но… — Ольга отвела глаза, не выдержала, зардевшись и теряясь. Это было признание? Или что? Ему больше ничего не вспомнилось или процитировал намеренно данное стихотворение? — Если верить вышесказанному, то в разлуке любят горячее.
— Это только Алексей Николаевич, — улыбнулся Петя, — я с ним не согласен.
Нейдгард посмотрела на этого полного, некрасивого поэта, сидевшего неподалёку одиноко за столиком, и печально заметила:
— Удивительно, насколько внешность может не сходиться с тем, что внутри человека.
— И у меня?
Оля вернула к нему рассеянное после жгучих строк внимание и постаралась собраться с мыслями.
— Не знаю. Мне часто кажется, что ты никак не покажешь себя настоящего.
— Почему у тебя такое впечатление? — удивился Столыпин.
— Потому что… потому что ты как в ракушке: слишком выдержанный, спокойный, терпеливый…
— Но ты же сама говорила, что я должен быть таким!
— То-то и оно, что ты, выходит, действуешь по моему указанию, скрывая себя такого, какой есть. Но ведь терпение не бывает бесконечным, и что же — после свадьбы ты переменишься?
— Почему я должен перемениться? Разве ты попросишь меня стать другим?
— Нет же! Я именно об этом! — не доев, Ольга отодвинула вазочку с пломбиром. — Забудь о том, что я просила и говорила. Забудь о том, какие называла необходимые качества. Будь собой. Просто будь такой, какой ты есть. Прямо с этой минуты.
— И… как я должен это продемонстрировать?
— Отвечай мне так, как думаешь, реагируй так, как хочется реагировать. Не скрывай своих мыслей.
— Это не лучшее решение, — покачал головой Пётр.
— Почему?
— Потому что тогда я скажу, что хочу поцеловать тебя.
Краска только начала отступать от её лица, как прилила обратно с большей силой. На минуту Оля забыла, что говорила, о чём они говорили. Она только посмотрела на губы Пети и, побоявшись быть пойманной на этом, отвернулась. Быть поцелованной им — каково это? Миша не носил бороды, Миша был ниже, и губы у него были совсем не такие. Поцелуй будет другим, Нейдгард это чувствовала, но другим он будет не только из-за внешних различий, но из-за того, что у братьев совсем разный характер. Разное поведение. Разный темперамент.
Продолжение беседы потерялось где-то нитью в лабиринте мыслей, когда в зал ресторации вошёл ещё человек, и Ольга, увидев его, тихо ахнула:
— О, это же Чайковский!
Столыпину хватило приличий не обернуться и не начать глазеть. Да и не был он поклонником музыки, чтобы восторгаться Чайковским.
— Интересно, он один тут будет обедать? — последила за ним Нейдгард. При дворе многие любили его музыку, считали композитора гениальным.
К её удивлению, Пётр Ильич, пройдя почти всю залу, дошёл до столика Апухтина. Они улыбнулись друг другу, поздоровались, и уселись вместе.
— Петя, он сел обедать с твоим знакомым!
— В самом деле? Значит, это не только мой знакомый, — улыбнулся Столыпин.
— А ты… может, тогда смог бы устроить, чтобы мы побывали при его исполнении?
— Тебе хочется?
— Да, очень! — загорелась Оля, любившая красивую музыку.
— Хорошо, Оленька, я постараюсь, — он покончил с десертом и вытер салфеткой губы, — а ты мне сыграешь что-нибудь?
— Из Чайковского?
— Не имеет значения. Что тебе больше нравится.
— Папá говорит, что я лучше всего играю на нервах, — заговорщически предупредила Нейдгард.
— Боюсь, я в этом плане плохо звучащий инструмент.
— Это в хорошем или плохом смысле? То есть… ты разнервничаешься или наоборот нет? Ты подразумевал расстроенный инструмент или что мои попытки будут расстроены, потому что твой инструмент… боже! — остановилась Оля, запутавшись и заведя себя рассуждениями до позорной оплошности, оговорки, срамящей уста воспитанной девушки. — Я имела в виду, что…
— … и «многое другое», — поддел её Петя предыдущей многозначительной концовкой, сорвавшейся с языка Ольги. Видя, что он потешается над ней, она чуть пристукнула кулачком по столу:
— Я просила не быть злопамятным! — и, спрятав лицо под ладонью, сама тихо засмеялась: — Почему рядом с тобой я всегда начинаю выглядеть глупо?
— Ничуть. По-моему, премило, — заверил Столыпин. И вернулся к теме, с которой они соскользнули: — Так, может, сыграешь мне просто музыку на фортепиано?