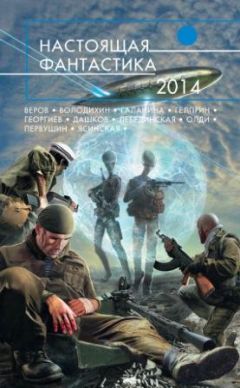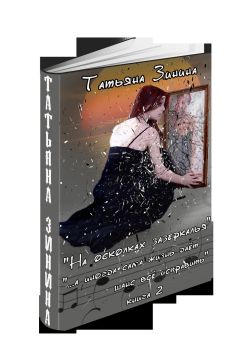На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
— Ты вернулся, мой мальчик, — улыбнулась еле заметно баронесса в самый первый из них, пытаясь коснуться слабыми пальцами его заросшей щеки. Он поймал эти тонкие пальцы, на которых уже почти не держались кольца и поцеловал их порывисто, забывая обо всех разногласиях, которые были меж ними до этой минуты.
— Ты похож на крестьянина. Так зарос, — шутливо пожурила баронесса сына, а потом встревожилась, заметив грязно-белую перевязь, на которой висела его рука.
— Пустяки, — поспешил он успокоить ее, заметив тень тревоги в ее глазах. — Просто выбил плечо. Все хорошо в остальном…
Но мать уже не слышала его, снова погружаясь в состояние забытья без боли, которое дарили остатки морфия. Второй раз баронесса пришла в сознание только под вечер, но эти мгновения были так же коротки.
— Посмотри там, — единственное, что произнесла она отчетливо, касаясь своими пальцами руки Рихарда, когда он с огромным трудом, но старательно делал ей инъекцию согласно записям сиделки, найденным на столике возле кюветы с шприцами и иглами.
«Там» означало соседнюю комнату, куда Рихард прошел, предварительно убедившись, что с матерью все в порядке, а лекарство начало свое действие. Сначала в полумраке сумерек он не сразу заметил то, что хотела показать ему мать. А потом заметил знакомые глаза и замер, ощущая, как стало неровно биться сердце, пропуская удар за ударом.
Это была та самая недописанная картина Мадонны с младенцем, которую Рихард когда-то купил у вдовы Ротбауэра и которая, как он полагал, была уничтожена матерью со всем остальным, что могло быть напоминать Лену. Она стояла на подставке, словно кто-то постарался, чтобы первым, что увидел входящий сюда, была именно героиня этого изображения и ее нежная улыбка.
Эта комната стала настоящим магнитом для него и спасением от действительности. Пусть он ощущал под пальцами только грубоватый холст, покрытый мазками краски, а не мягкую кожу лица. Пусть она никогда бы не могла ему не ответить. Но он приходил сюда, усаживался в кресло напротив картины и смотрел на нее, иногда разговаривая как с живой Леной. Портрету рассказать правду о том, что было в России, гораздо проще, как и открыть свои страхи из-за приближающейся смерти матери, ледяное присутствие которой он явственно ощущал, и из-за будущего, которого он не видел для себя впереди.
Баронесса уже не приходила в ясное сознание. Она звала брата Ханке или родителей, требовала к себе Биргит, а чаще разговаривала с ним как с отцом, которого он никогда не знал, а видел только на фотокарточках. Ему всегда говорили, что он невероятно похож на Фридриха фон Ренбек, в которого когда-то баронесса влюбилась с первого взгляда, очарованная им и его улыбкой.
В минуты, когда она обращалась к Рихарду как к своему покойному мужу, ее лицо становилось таким нежным и красивым, теряя следы болезни и привычную властность, что он невольно любовался матерью. Иногда она говорила что-то резко о том настоящем, которое существовало в ее реальности, созданной морфием: то говорила о том, что не может найти бабушкины жемчуга, чтобы ехать на вечер к фон Хазе в Берлине, то просила Рихарда побриться, потому что у него был «совсем непотребный вид» для приема у Геринга, куда она собиралась с дядей Ханке. Только однажды она заговорила о войне, схватив так резко Рихарда за руку, что он испугался, что повредит ей вену.
— Русские!.. Дрезден!.. О Боги! Бомбардировка!.. — и все повторяла с каждым разом все настойчивее и громче «Русские! Дрезден!», цепляясь в ткань его пижамной куртки, что он испугался за ее рассудок, видя это все нарастающее безумство. Хорошо, что вводимый в кровь морфий подействовал вскоре, и мать успокоилась.
Уединение Рихарда было нарушено спустя пару дней после возвращение в Розенбург. Он думал, что это будут янки, но первым его визитером стала заметно постаревшая Айке, проскользнувшая в дом через заднюю дверь кухни. Увидев Рихарда, поспешившего на звуки, бывшая кухарка заплакала и бросилась ему на шею, забыв совершенно о прежних границах между слугами и хозяевами. И он не стал отстранять ее, а обнял, как мог одной здоровой рукой, чуть поморщившись от боли.
— Простите меня, господин барон, — опомнилась вскоре Айке, вытирая мокрое от слез лицо ладонями. — Я не знала, что вы вернулись, хотя в городке ходили об этом слухи. Я пришла потому, что узнала только сейчас, что сиделка госпожи баронессы убежала из замка. Мы все сидим словно мыши в норах в своих домах и ни с кем не общаемся. Если бы у старого Петера не закончились бы припасы, я бы так и не узнала… И я… я боялась идти… все тянула… но не смогла… потому я здесь. Я принесла немного еды для вашей матери… О господин барон, что вы делаете! — ошарашенно произнесла Айке, когда Рихард поцеловал ее руку с чувством. Подобная готовность рисковать собой в настоящее опасное время растрогала его. — Вы же знаете, ваша семья дорога каждому в этих землях, да еще после того, что вы делали для нас всех в плохие годы! А мне вы — как семья! Разве я могла не прийти?..
Баронесса умерла той же ночью. Измотанный Рихард уснул, доверив ночной уход за матерью Айке, а та, к его досаде, не сразу заметила, что в тот раз все было немного иначе, чем обычно. Не просто сон успокоил измученную болезнью женщину спустя некоторое время после укола, а смерть подарила ей избавление от мук. Увела с собой туда, где ее вот уже больше тридцати лет ждал ее любимый Фрицци, который в последние дни виделся ей в сыне и с которым разговаривала как с живым.
Но Рихард был благодарен Айке не только за то, что не один был в эти часы после смерти матери. Он бы просто не смог взять на себя хлопоты, которые неизменно предшествую любому погребению. Терпеливо ждал, пока Айке обмоет тело и облачит его в знакомое до боли шелковое платье, в котором когда-то баронесса встречала Рождество в Розенбурге.
О, как же ему хотелось хотя бы на миг вернуться в то самое Рождество! Закрыть глаза и вернуться в то время, когда все еще был жив дядя Ханке, и мама была так красива в этом платье багряного цвета. Когда его сердце так сладко замирало, когда он вел в танго Ленхен, борясь с желанием прижать ее к себе теснее, чем требовал танец, ощущая с трепетом дрожь ее тела, вдыхая запах ее волос, не прикрытых косынкой. Когда можно еще было притвориться, что он не живет в ужасной иллюзии, обманывая себя и успокаивая свою совесть.
Похоронить мать Рихард решил в семейном склепе в подвале городской церкви. Конечно, хотелось бы положить ее к отцу, прах которого привезли из Западной Фландрии, но он понимал, что ему самому ни за что не сдвинуть каменную плиту, под которой был упокоен Фридрих фон Ренбек. Его просто убивало, что он не может обеспечить матери те похороны, которых она заслуживала по положению. Даже сколотить жалкое подобие гроба одной рукой он никак не мог. Единственное, что оставалось — завернуть баронессу в дорогие скатерти с бельгийским кружевом, которое она так любила, как в саван, и положить в склепе на могилу отца, заперев за железными дверьми, вот уже несколько веков хранящие покой его предков.
Рихард отказался от помощи Айке, попросив ее остаться в замке с Артигом. Если в городе уже были солдаты — янки или томми, ей не следовало быть рядом с ним при его пленении или расстреле, ведь насколько он наслышан янки редко брали в плен. А в церкви он надеялся на помощь пастора, который, по словам Айке, не покидал святых стен уже несколько дней кряду. Увы, в баке любимого «опеля» не осталось достаточно бензина, и пришлось соорудить что-то наподобие тележки, чтобы отвезти тело в город, в которую он впрягся, аккуратно уложив на груди веревку, чтобы не задеть руку в перевязи.
— Подождите, господин Рихард, подождите! — нагнала его Айке, когда он с трудом проволочив тележку по гравийной площадке у замка, вышел на хорошо раскатанную подъездную дорогу. — Я хотела сказать вам все это время — мне жаль, что так случилось с Ленхен…
Сначала она просила Айке, нашу кухарку, помочь ей в очередном преступлении против закона рейха — найти человека, который прервет беременность этим выродком.