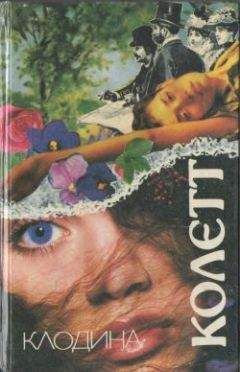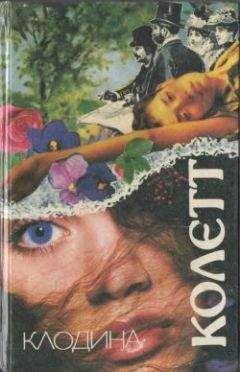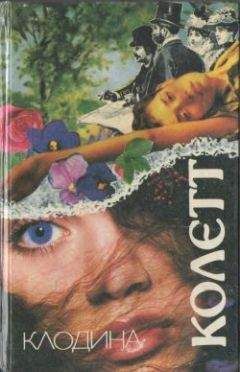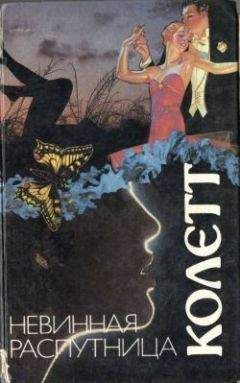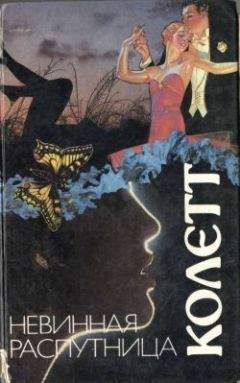Сидони-Габриель Колетт - Клодина в Париже
– Всего в каких-нибудь двух шагах от Сорбонны, совсем рядом с Географическим обществом и рукой подать до библиотеки Сент-Женевьев!
Я слышала жалобы Мели на то, что кухня слишком маленькая (а ведь кухня, находившаяся по другую сторону лестничной площадки, – пожалуй, одна из самых красивых комнат в квартире), и не спорила, когда она, прислуживая нам, ссылалась на наш тяжёлый и ещё не завершённый переезд и подавала еду… такую же незавершённую и тяжёлую для пищеварения. Меня неотступно терзала одна мысль: «Как же случилось, что я здесь, что я позволила свершиться этому безумию?» Я отказывалась выходить на улицу, упрямо отказывалась заниматься чем бы то ни было полезным, слонялась из комнаты в комнату, горло у меня сжималось, я совсем лишилась аппетита. Дней через десять вид у меня стал до того странный, что даже папа заметил это, он сразу страшно разволновался, а он никогда ни в чём не знал меры, во всём доходил до крайности. Он усадил меня на колени, прижал к большой трёхцветной бороде, качал меня, обхватив своими узловатыми пальцами, от которых пахло сосной, потому что он перед этим вешал полки… Я, стиснув зубы, молчала, я была страшно зла на него… А потом мои натянутые нервы не выдержали, и у меня началась настоящая истерика. Мели уложила меня в кровать, я вся горела как в огне.
После этого я проболела довольно долго. Это была нервная горячка, течение которой напоминало брюшной тиф. Вряд ли я много бредила, я то и дело погружалась в мучительную темноту ночи и не ощущала больше своего тела, только голова разламывалась от боли! Помню, я целыми часами лежала на левом боку, лицом к стене, вычерчивая на ней пальцами контуры какого-то фантастического плода, изображённого на пологе кровати: нечто вроде яблока с глазами. И сейчас ещё, стоит мне взглянуть на этот рисунок, и я уже блуждаю в мире навязчивых кошмаров, в водовороте снов, где всё кружится: и Мадемуазель, и Эме. и Люс, какая-то стена, готовая обрушиться на меня, злючка Анаис и Фаншетта, огромная, величиной с осла, усевшаяся мне на грудь. Помню ещё, как склонялся надо мной папа: его лицо и борода представлялись мне чудовищно большими, и я отталкивала его слабыми руками, тут же отдёргивая их, потому что сукно его сюртука казалось мне таким грубым, колючим, до него больно было дотронуться! И, наконец, помню тихого ласкового белокурого доктора с тонким, как у женщины, голоском и холодными руками, от которых я вздрагивала, когда он ко мне прикасался.
Целых два месяца невозможно было расчесать мне волосы, и, поскольку тугие свалявшиеся завитки причиняли мне боль, когда голова металась по подушке. Мели ножницами обстригла мои локоны совсем коротко, как смогла, лесенкой! Боже, какое счастье, что эта дылда Анаис не видела меня такой вот, обстриженной под мальчика, ведь она ужасно завидовала моим каштановым кудрям и на переменах исподтишка дёргала за них.
Постепенно я вновь стала обретать вкус к жизни. Как-то утром, когда меня усадили в кровати, я заметила, что солнце, поднимаясь по небосклону, ярко освещает мою комнату, что очень весело смотрятся на стенах обои в белую и красную полоску, и мне вдруг захотелось жареной картошки.
– Мели, я проголодалась! Мели, чем это так вкусно пахнет из кухни? Мели, дай мне поскорее зеркальце. Мели, принеси одеколону, я протру уши. Мели, что там снаружи делается? Я хочу встать.
– Ох, мой птенчик, какая же ты стала торопыга! Это оттого, что выздоравливаешь. Но ты и на ногах-то не устоишь, разве что на четвереньках, да и доктор запретил.
– Ах, вот ты как? Ну подожди, отойди-ка, не двигайся! Сейчас увидишь.
Хоп! Несмотря на отчаянные мольбы, и причитания, и вопли: «О, моя обожаемая Франция, сейчас ты шлёпнешься прямо на пол! Служаночка ты моя, я пожалуюсь на тебя доктору!», я с превеликим трудом спускаю ноги с постели… О, горе мне! Что сталось с моими икрами? А какими чудовищно большими выглядят колени! Упав духом, я снова залезаю в свою постель, не в силах всё это вынести.
Я соглашаюсь вести себя разумно, хотя и нахожу, что у парижских «свежих яиц» какой-то странный вкус – словно жуёшь газету. В моей комнате уютно, горят дрова в камине, и в отблесках пламени мне приятно смотреть на красно-белые полосатые обои (я уже говорила о них), на мой двухстворчатый нормандский буфет, где лежит всё моё жалкое приданое; доска у него истёртая, ободранная, кое-где порезанная и в чернильных пятнах. Буфет стоит рядом с кроватью, у длинной стены моей прямоугольной комнаты, рядом с кроватью-лодочкой орехового дерева с пологом из набивного кретона (довольно старомодным) – на белом фоне жёлтые и красные цветы и фрукты. Напротив кровати – маленький письменный стол красного дерева, тоже выглядящий как-то несовременно. Никакого ковра на полу; вместо этого перед кроватью – большая шкура белого пуделя. Низенькое широкое кресло с чуть вытертой обивкой на подлокотниках. Низенький стул старого дерева, с жёлто-красным соломенным сиденьем, ещё один стул, тоже низенький, выкрашенный белой эмалью. И небольшой квадратный плетёный столик, покрытый бесцветным лаком. Вот такая мешанина! Но сборище всех этих предметов вместе всегда казалось мне чудесным. У более короткой стены – две альковные двери, за которыми днём скрывается моя тёмная умывальная комната. Туалетным столиком мне служит консоль с доской из розового мрамора в стиле Людовика XV. (Это чистейшее расточительство, глупость; консоль, конечно, гораздо лучше смотрелась бы на своём месте, в гостиной, я знаю, но недаром же я истинная папенькина дочка.) Дополним список предметов: самая обычная большая лохань – мой необузданный скакун, – а не алюминиевый таз: вместо алюминиевого таза, от которого холодно ногам, такого нелепого из-за гулкого грохота, похожего на театральный гром, деревянная бадья, вот так! Крепко сработанная в Монтиньи буковая лохань с обручами, я могу в ней сидеть, поджав под себя ноги, в горячей воде, ощущая приятное прикосновение к своему заду шершавого дерева.
И вот я послушно ем яйца и, поскольку мне строго-настрого запрещено читать, читаю очень мало (от чтения у меня сразу же начинает кружиться голова). Я никак не могу понять, почему радость, которую я испытываю при пробуждении, постепенно тускнеет, по мере того как угасает день, и переходит в чёрную меланхолию, в какую-то дикую затаившуюся тоску, как ни старается Фаншетта привлечь к себе моё внимание.
Фаншетта, счастливое создание, весело приняла своё заточение. Она, не протестуя, согласилась справлять свои делишки на посыпанной опилками доске за моей кроватью, у стены, так что, наклонившись, я могу позабавиться, наблюдая отражение всех фаз столь важной процедуры на её кошачьей мордочке. Фаншетта, сидя на постели, моет задние лапки, весьма тщательно вылизывая между пальцами. Скромная, ничего особенного не выражающая мордочка. Вдруг туалет резко прерывается: мордочка серьёзная и какая-то озабоченная. Внезапно меняет позу – садится на свой задик. Глаза смотрят холодно, почти сурово. Встаёт, делает три шага и снова садится. Но вот окончательное решение принято, она спрыгивает с кровати, бежит к своей доске, скребёт её лапками… никакого результата. И вновь на мордочке полное безразличие. Но ненадолго. Брови тревожно сдвигаются; она снова лихорадочно скребёт опилки, переступает лапками, стараясь устроится поудобнее, минуты три с застывшими, вытаращенными глазами вроде бы о чём-то упорно размышляет. Следствие небольшого запора. Наконец она медленно поднимается и тщательно, со всеми предосторожностями закапывает трупик; вид у неё проникновенный, вполне соответствующий этому погребальному действию. Слегка поцарапав лапами ещё и вокруг доски, она сразу, без перехода, начинает свои вихляющиеся, дьявольские прыжки, предваряющие танец козочки, символ облегчения и освобождения. Я смеюсь и кричу: