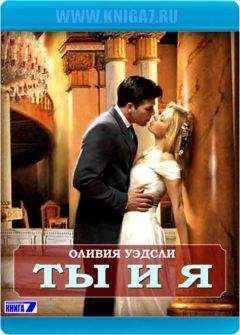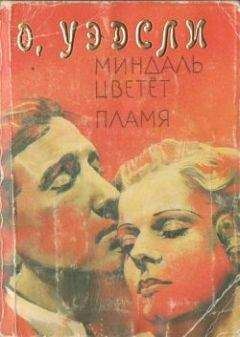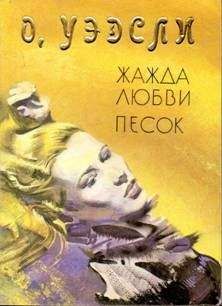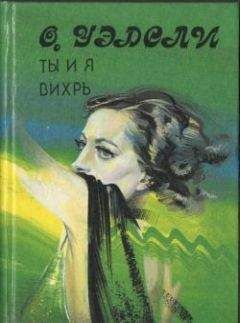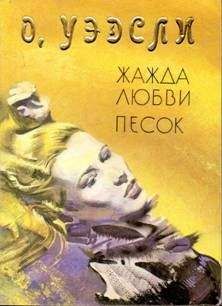Оливия Уэдсли - Миндаль цветет
– Я пойду, – сказала Дора.
– Отлично, я сойду через две-три минуты.
Дора вышла сменить обувь. Рекс остался у камина; он улыбнулся, и улыбка его была так же печальна и мрачна, как этот серый день.
«Он отлично знал, – думал он, – что я еще не могу много ходить; потому и спросил, что знал». Между тем Дора с Паскалем шли уже по лужайке.
– Как вы хорошо сыграли! – сказал Паскаль. Дора посмотрела на него широко раскрытыми глазами.
– Сыграла?
– Я хочу сказать, что вы вступили в разговор как раз в нужный момент.
– В таком случае я очень рада, но я не старалась. – Она подарила его чудной улыбкой. – Мне хотелось остаться с вами наедине, а это был такой удобный случай.
«О юность», – подумал Паскаль. Его душе, уже давно пережившей первую молодость, такая наивная откровенность не понравилась. В любовных делах ему наибольшее удовольствие доставляла интрига. И все-таки, когда он взглянул на Дору, день показался ему менее сумрачным. Она была так стройна, так прекрасна в своем мальчишеском костюме, в фетровой шапочке с пером на голове. В глубине ее глаз мерцали звезды. Она взяла его под руку.
– Пан…
Он оглянулся посмотреть, нет ли кого позади, и, убедившись, что никого нет, крепко сжал ее руку.
Лицо Доры запылало.
– О Пан, я думала, что вы забыли, а это в самом деле случилось. Мне все не верится, и, чтобы поверить, я все твержу себе: «Это случилось. Он любит. Он поцеловал меня». Пан!..
– Да, Афродита?
– Пан, что за дело, что сейчас еще утро? Нельзя ли один, совсем, совсем маленький?.. Ведь теперь Рождество, и нужно быть щедрым.
Ее необыкновенная, почти детская живость тронула даже его «не первую молодость».
Забыв осторожность, забыв свое решение осторожно двигаться к цели, он направился с Дорой к небольшой буковой заросли, посаженной Тони, и под прикрытием этих кустов, которые сами еще нуждались в прикрытии, поцеловал ее.
Место и время были совсем не подходящие для романа: часы на конюшенном дворе только что пробили одиннадцать. Кругом во мгле зимнего утра раскинулись поля, покрытые жнивьем. Только совсем зеленая юность могла любить где угодно, но Пан чувствовал себя не в настроении для поцелуев.
Дора спросила его:
– Почему мы должны скрывать нашу любовь?
Пан засмеялся, но в его смехе не было веселья.
– А потому, что Тони не позволяет нам любить друг друга.
– Но как он может знать? Мы сами не знали, пока не поцеловались. Если бы я сказала ему, он не возражал бы.
Пан остановился и взял ее за руки.
– Слушайте, вы не должны ничего говорить Рексфорду. Я сейчас не могу объяснить вам почему; позднее скажу. Но дайте мне слово, что наш секрет останется только нашим до тех пор, пока я не освобожу вас от вашего слова.
– Обещаю, Пан.
Она подняла голову, он наклонился и поцеловал ее остывшие губы, а затем, забыв про зимнее утро и поле, покрытое жнивьем, стал целовать эти холодные губы до тех пор, пока они не стали горячими как огонь и пока он сам не запылал страстью.
И так продолжали они стоять, прикрытые одним лишь небом, обнявшись и соединив в одно темную и золотую головы, до тех пор, пока из норы не выскочил кролик, которому захотелось подышать свежим воздухом, а где-то рядом с ними не затянула песню птичка.
Их увидал с дальнего холма Тони, возвратившийся верхом из Пойнтерса. Он осадил лошадь, остановился и стал смотреть: зрение у него было великолепное. Ярость его была так велика, что его трясло как в лихорадке, лицо побагровело, губы посинели, от волнения он стал задыхаться и подергивать своими дрожащими пальцами плетеный хлыст.
Он смотрел до тех пор, пока обе фигуры не разделились; тогда он круто повернул лошадь и поехал домой.
А Дора говорила Пану дрожащим голосом:
– О Пан, Пан, я люблю вас, люблю вас…
Взгляд ее случайно упал на кролика, и она весело рассмеялась:
– Ах, маленький шпион!
Пан побледнел и, круто повернувшись, увидел маленькую серую шкурку.
Дора объяснила ему причину своего смеха, но он стал рассеянным и был недоволен собой; положительно место было слишком открытое, и нельзя было так рисковать.
«А впрочем, – подумал он минуту спустя, – какое же преступление – поцеловать хорошенькую девушку? Если с Дорой не случится ничего хуже этого, то она, в сущности, не потерпит никакого ущерба. И неужели Тони так глуп, чтобы предполагать, что такая девушка, как Дора, в которой кипит южная кровь, которая вся – огонь и желание, может прожить жизнь без поцелуя?»
В то же время, закусив трубку зубами, заложив руки за спину, Тони ходил взад и вперед по своему рабочему кабинету, как называл он комнату, куда имел обыкновение удаляться, когда хотел «что-нибудь обдумать», то есть обычно – просто заснуть.
Не так смотрел он на Дору, как Пан, столь дешево ценивший ее молодость и заранее цинично убежденный, что жизнь накажет ее за ее красоту. Нет, он видел перед собой маленькую девочку в зеленых башмачках, потом пятнадцатилетнюю девушку в день ее рождения; он вспоминал, как он подарил ей первую охотничью лошадь и как она повисла у него на шее…
А Пан осмелился прикоснуться к этой чистоте, осмелился осквернить ее своими ласками…
«О боже!..» Он случайно увидал свое лицо в маленьком зеркале и остолбенел.
Неужели в самом деле у него такой вид? Он сделал над собой страшное усилие, чтобы побороть свой гнев.
Была минута, когда ему представилось, что он держит в своих руках Пана и сжимает ему горло; как раз в этот миг он увидел себя в зеркале и понял, что обратился в дикаря.
С самой смерти Франчески весь его интерес к женщинам сосредоточился на Доре; он чувствовал ее исключительно своей, и, даже когда родился Рекс, он понял, что никакой ребенок никогда ему ее не заменит.
Смерть Франчески еще более связала его с ней, еще более усилила его привязанность, и, может быть, потому, что она была осуществлением его желания, воплощением его мечты, он считал ее более своей, чем своего родного сына.
И вдруг она, такая чистая, такая прекрасная, будет замарана, загублена Паном – человеком, которого он презирает и имеет основание презирать. Вся старая ненависть вспыхнула в нем с новой силой.
Он встал со своего глубокого кресла и с трудом дошел до окна. Как раз в это время Пан и Дора возвращались с прогулки. Он увидал их, позвонил и приказал позвать к себе Гревиля, как только он вернется.
Пан вошел легкой походкой, наружно совершенно спокойный, хотя в душе у него и были некоторые опасения.
– Я видел вас на поле, – сразу сказал ему Тони. Пан не отвечал; он старался найти для себя выход, но ничего не мог придумать.
Тони толкнул ногой полено в камине, повернулся и посмотрел на него в упор.
– Тебя вызовут в город, чтобы ехать в Париж, – сказал он хриплым голосом, – я думаю, ты получишь телеграмму завтра утром.