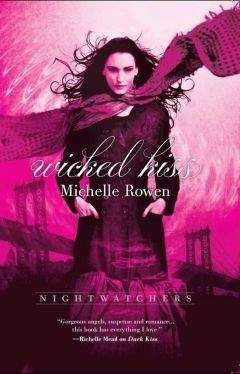Мишель Моран - Избранница Наполеона
Я в таком шоке, что забываю, что мы еще танцуем.
— Ему невинности захотелось?
— На данный момент — да, — быстро отвечает Поль.
Но я чувствую, как в желудке вспыхивает всепожирающий огонь. Мой брат, который в первый раз овладел замужней графиней Валевской, когда она упала в обморок у его ног, любит невинность? Мужчина, обожающий шлепнуть придворную даму по мягкому месту и тут же затащить ее в спальню? От такого лицемерия у меня закипает кровь.
Когда фортепиано умолкает, я оказываюсь лицом к лицу с Наполеоном и приседаю в глубоком поклоне.
— Очаровательно!
Наполеон хлопает, и ему немедленно следует весь двор.
— Belissima! — восклицает он на нашем родном итальянском.
— Это было весьма впечатляюще, — говорит Мария-Луиза, и, хотя нас еще утром представили друг другу, произносит она это весьма официально. — Вы прекрасно танцуете.
Я смотрю на Канувиля, который не сводит с меня горящих от вожделения глаз.
— Я начала танцевать еще в детстве, на Корсике, — отвечаю я. — Надеюсь, вы тоже танцуете. Мой брат любит смотреть, как красивые женщины… вальсируют.
Мария-Луиза прерывисто вздыхает, а брат испепеляет меня взглядом.
— Идем со мной! — приказывает он, и все вокруг расступаются, словно я вдруг стала заразной.
— Сегодня, — на ходу шепчу я Канувилю на ухо. — В полночь в моих покоях.
Вслед за Наполеоном я выхожу в двойные двери танцевального зала. Он так тяжело дышит, что кто-то из проходящих мимо солдат интересуется его самочувствием.
— Все отлично! — рявкает он, и парень скрывается в тени.
Мой брат ждет, чтобы я первой вошла в библиотеку, а когда за нами закрывается дверь, я успокаиваю его:
— Это была шутка.
— Я лишу тебя титула! — кричит он. — Останешься просто мадам Полиной, и ничем больше!
Он смотрит на меня в мерцающем свете очага, и на мгновение мне становится по-настоящему страшно.
— Мой муж носил княжеский титул задолго до того, как ты стал императором, — наконец говорю я.
Я княгиня потому, что замужем за Камилло, а не по прихоти моего братца. Как его нежная невеста с габсбургской кровью.
— Кстати, о твоем муже. Я его вызвал в Париж, — объявляет он. — Второго апреля он должен присутствовать на моей свадьбе. — Я открываю рот, чтобы возразить, но он еще не достал последнего козыря. — По этому случаю ты будешь в часовне нести шлейф за императрицей. Ты хоть и княгиня, но она — римская императрица.
— Шлейф за ней я не понесу! — предупреждаю я.
Брат поджимает губы.
— Полина, ревность тебе никогда не шла. И шлейф нести ты будешь, не сомневайся! Иначе окажешься в Риме со своим Камилло.
Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь понять, насколько реальна угроза, но у него каменное выражение.
— Почему ты так со мной поступаешь?
В отблесках огня он кажется моложе своих сорока. Я представляю его в золотой с синим египетской короне и нагруднике, с посохом в руке.
— Это всего лишь шелковый шлейф, — резко произносит он. — Он не взрывается.
Я закрываю лицо руками.
— Я не могу жить с Камилло! Он идиот.
— Довольно, Полина!
Я смотрю, как брат обходит свой письменный стол и тяжело опускается в кресло. Вид у него измученный, как будто этот разговор вытянул из него последние силы.
— Официальная церемония состоится через четыре дня. И ты будешь стоять в Лувре рядом с сестрами и Камилло.
— Не желаю иметь с этим человеком ничего общего! — визжу я.
— Надо было думать, когда замуж выходила. А на моей свадьбе он будет!
— Но жить со мной во дворце Нейи он не станет! — категорически заявляю я. Этот дом брат подарил мне во время своей испанской кампании. — Я скорее пущу туда Жозефину, чем Камилло!
— Значит, отправишь его в особняк Шаро! — сердито бросает брат. Такое название носит мой дом на рю де Фобур Сент-Оноре. — Но второго апреля чтоб улыбалась!
Он стремительно проносится мимо меня, и я понимаю, что сегодня его ничем не проймешь.
Глава 12. Поль Моро
Лувр, Париж
2 апреля 1810 года
Пожалуй, такого зрелища Париж еще не видывал. Войска проходят маршем по Елисейским полям, превратившимся, насколько хватает глаз, в нескончаемый поток красных мундиров и роскошных экипажей. Такой парад стоил целое состояние — и это в то время, когда простой народ понимает, что еще одна война — и имперская казна окончательно опустеет. И все же, куда ни глянь — всюду ликование. Оно написано на лицах заполонивших улицы людей, оно читается в возбуждении придворных, которые обогатятся, обслуживая нашу новую императрицу.
— Никогда не видел ничего подобного, — говорит Меневаль, а я подозреваю, уж он-то повидал немало торжественных процессий в этой стране. Мы уже час стоим возле Лувра; Наполеон обожает пышные зрелища. — С сегодняшнего дня в Европе уже ничто не будет как прежде. Дочь австрийского двора выходит за правителя империи, размерам которой позавидовал бы сам Карл Великий. Какая страна станет бросать вызов такому союзу?
Я пытаюсь представить себе, какой будет мирная жизнь после десятилетий революций и войн.
Не будет больше списков погибших. Не будут хоронить придворных, отправившихся на войну за своим честолюбивым императором только потому, что ему захотелось прирастить свои земли.
А раз мир установится в Европе, почему бы ему не быть и за ее пределами? Зачем Франции рваться к новым колониям и рабам, если тут и так царит процветание и всеобщее благоденствие?
Попав наконец в Лувр, мы проходим в зал, который Наполеон превратил в изумительную часовню, отделанную алым бархатом и шелком. Я занимаю свое место рядом с Меневалем в красиво убранном ряду сидений и пытаюсь угадать, способен ли кто-нибудь кроме меня оценить иронию того факта, что именно прабабка невесты Мария-Антуанетта превратила этот дворец в общедоступный музей. А народный освободитель Наполеон теперь распорядился заменить висящие в этой «часовне» полотна гобеленами с изображением ее правнучки Марии-Луизы — и себя самого. Говорили, что, когда месье Денон отказался выносить картины — уж больно большие, — Наполеон ответил: «Замечательно! Тогда я их сожгу». И на следующий день Денон нашел способ снять и унести полотна.
В толпе позади меня я насчитал не меньше полудюжины, а то и больше, бывших любовников Полины. Вон стоит Греу, продержавшийся всего неделю, а вон, среди прочих — граф де Форбен. Удивительно, как Полине удается при виде их всех в одном месте не краснеть. Но заливаться краской стыда — не в ее характере. Уж скорее она испытывает своего рода ликование оттого, что они лицезреют ее в таком ослепительном виде.