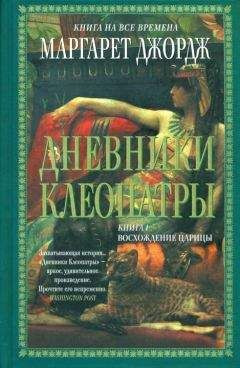Маргарет Джордж - Дневники Клеопатры. Книга 2. Царица поверженная
Октавиан снисходительно рассмеялся.
— Разумеется, ты можешь сохранить личное имущество. Не беспокойся о таких вещах. Оставь себе все, что сочтешь нужным.
— Это не мне, это для Ливии и Октавии…
Он улыбнулся.
— Да, конечно.
И снова я заглянула в его сознание. Он считал, что я отчаянно хочу жить и ищу способ улучшить свою участь.
Мне удалось убедить его.
— Могу заверить тебя, прекрасная царица: ты получишь все, что тебе причитается, сверх любых ожиданий.
Он улыбнулся. То была первая искренняя улыбка за время нашего разговора, но в его глазах сквозило и другое: лихой азарт, какой проявляется во время Дионисий.
— А сейчас я должен тебя покинуть.
Октавиан наклонился и поцеловал мне руку. Волосы его при этом упали на лицо, и он, выпрямившись, отбросил их назад, словно хотел выглядеть привлекательным в моих глазах.
— Ты так добр, император, — промолвила я, когда он уже направлялся к выходу.
Как только звук удаляющихся шагов дал понять, что Октавиан ушел, я рухнула на руки Мардиана.
— Ты с ума сошла? — спросил он. — Что это за выходки? Драться затеяла — с чего бы?
— Быстро, пока не вернулся Олимпий: знай, что я раскусила Октавиана. Теперь мне известно, что у него на уме. Если он не заподозрит нас, мы сможем выполнить наш первоначальный план. Я притворилась, будто ты разоблачил мою хитрость, — это сделано с умыслом. Будь внимателен! Теперь мы найдем выход!
Охватившее меня чувство походило на счастье. Тогда я не понимала, что это такое, но теперь знаю: восторг победителя, чувствующего, что олимпийский венок вот-вот увенчает его чело.
Глава 53
Октавиан превзошел себя в щедрых знаках внимания. Не прошло и часа, как появились блюда с арбузами, гранатами, финиками и зелеными фигами, к которым добавилась амфора лаодикейского вина (Антоний, как ни старался, не сумел истощить все дворцовые запасы). Октавиан даже послал своего врача в «помощь» Олимпию, который, конечно же, воспринимал слова непрошеного советника с полным пренебрежением.
Свежие фиги, надо признать, были хороши.
— Он собирается меня откормить, — заметила я.
Конечно, чтобы брести позади его колесницы через весь Рим на Форум, я нужна ему в хорошей форме. К тому же мне придется тащить золотые цепи. Тут поневоле начнешь заботиться о моем питании и здоровье. Добрейший Октавиан!
Его злоба была замаскирована елейными комплиментами, полученными вместе с дарами: его сердце, видите ли, исполнилось радости при известии о том, что мне ничто не угрожает, он польщен моим доверием и выполнит мои пожелания, мне же не надо больше заботиться о подарках для Ливии и Октавии, а лучше заняться собственной красотой. Ну и так далее, в том же роде.
Я снова легла на кровать, застеленную теперь лучшим льняным бельем из дворца — тоже милостью Октавиана, — и решила, что силы мне и впрямь пригодятся. Что ни говори, а волнение и опасность сильно подействовали и изменили меня. Разыгрался аппетит, и скоро от Октавиановых даров остались лишь кожура да косточки.
— Надо потребовать жареного быка, — сказала я Мардиану. — Он пришлет, не пройдет и часа.
И он прислал. Надо же, до чего услужлив.
В эту ночь, впервые после падения Александрии, я заснула по-настоящему.
Поскольку Октавиан всячески выказывал стремление угадать, а у меня действительно имелось страстное желание, которое он мог исполнить, я направила ему просьбу, выдержанную в льстивом и подобострастном духе, сообразно моему положению и его склонностям. И стала ждать. Вскоре Долабелла постучал в дверь с ответом в руке. Сообщалось, что моя просьба удовлетворена: детей приведут ко мне.
О, как воспрянуло при этом известии мое сердце! Только мать, разлученная со своими чадами, в состоянии понять, как я изголодалась по ним. Мне необходимо видеть их, обнимать, держать за руки! Мне необходимо знать, как у них дела, что происходило с ними в те девять дней, пока мы пребывали в разлуке.
Октавиан передал мне наряды из моего гардероба, так что я смогла снять пропотевшую, запачканную ночную одежду и переодеться. Для меня было очень важно, чтобы они увидели свою мать такой, какой я хотела остаться в их памяти.
Сама я… Что я помнила о своей матери? Но я лишилась матери совсем младенцем, а значит, мои дети запомнят меня достаточно хорошо. Александр и Селена почти достигли того возраста, в каком была я, когда мой отец вынужден был оставить трон и бежать, а ведь я его хорошо помнила. Да, они тоже меня запомнят…
— Мама!
Дети влетели в помещение, наполнив его радостными высокими голосами.
— Мои дорогие!
Я немного наклонилась, чтобы обнять их всех разом и прижать к себе так крепко, как только возможно. Они здесь, они живы, и они будут жить. С короной или без нее, это сейчас не главное. Главное — они будут жить!
— Мама, да ты поранилась! — воскликнула Селена, указывая на отметины на моих руках и груди.
— Да, случайно. Пустяки, такие царапины быстро заживают.
— Но как это могло случиться? — не унимался Филадельф. — Ты на что-то налетела? На дверь, из которой торчали гвозди?
Он наморщил носик, пытаясь вообразить себе эту картину.
— Это отметины горя, — промолвила я, гадая, знают ли они о смерти Антония. Наверное, надо им сообщить.
Я отвела детей к окну, усадила на широкую скамью, села рядом с ними и сказала:
— Ваш отец умер.
— Как? — воскликнул Александр.
— Умер, когда пал город. Мы проиграли битву.
— Так он погиб в бою?
Как объяснить им, чтобы они поняли?
— Нет, не в самом бою. После его окончания.
— Но как? Почему? — настаивал он.
— Отец сделал так, как подобает отважному воину, — сказала я наконец, покачав головой. — Он не мог попасть в плен к неприятелю. Это стало бы… бесчестьем.
— Ты хочешь сказать, что он покончил с собой? — спросила Селена со слезами на глазах.
Я должна была сказать правду.
— Да. Но у него не осталось выбора. Хотя ему и жаль было с вами расставаться.
«Увы, — подумала я, — правители не могут жить по тем же правилам, что обычные люди».
— Почему у него не осталось выбора? — спросил Александр. — И что ужасного в том, чтобы стать пленником? Мы ведь тоже пленники, разве не так?
— Да, но только на время, совсем ненадолго. А ему бы пришлось стать пленником навсегда.
— А как насчет тебя, мама? — спросила Селена. Она всегда задавала самые острые вопросы, как будто видела глубже и яснее других. — Если он не смог согласиться на это, сможешь ли ты?
Ох, почему она задала мне этот вопрос? И Олимпий, и Цезарион в один голос твердили, что я не должна отвечать честно. Не должна рисковать, да и стоит ли лишний раз огорчать детей своим признанием? Нет, я воспользовалась заранее заготовленным ответом.