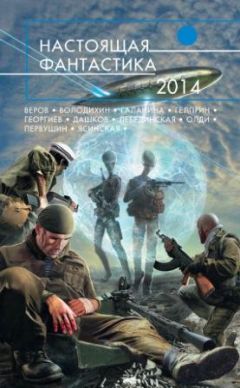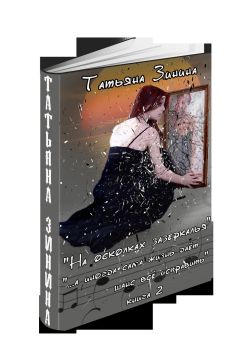На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Как знала Лена, дела в аптеке шли плохо. Администрация гау с последних пор строго контролировала поставки медикаментов населению, списки доступных, пусть и по карточкам лекарств значительно сократились. Все шло на фронт или в госпитали, которые как грибы разрастались в Дрездене и в окрестностях города — даже во Фрайтале открылся один, и Лена первое время опасалась, что ее привлекут туда медсестрой «трудового фронта», несмотря на то что она была записана в списках совсем по другому профилю работ.
Кроме того, в Людо поселился страх. Он появился после визита сотрудников гестапо в дом и никуда не делся после. Просто заполз в укромное местечко около сердца, чтобы пустить свои щупальца в каждую клеточку тела и отравлять дальнейшую жизнь. Остроту этого страха и злость на себя из-за него Людо все чаще гасил алкоголем — то зайдет в пивную после закрытия аптеки, то приложится к бутылочке шнапса, который умудряется достать через знакомых. Лена была уверена — попроси поляки Людо о помощи ей сейчас, он бы без раздумий отказал, не желая навлекать на себя лишнее внимание.
Наверное, это было к лучшему, что все сложилось именно раньше. Так следовало думать Лене позднее в тот рождественский вечер, когда она лежала в темноте спальни и смотрела на ясное звездное небо в щель между светомаскировочными шторами. Иначе она бы была уже мертва.
«Все приходит в свое время», — вспомнилась одна из немецких поговорок матери. Именно это мама сказала Коле, когда тот сообщил, что его супруга беременна, и они не знают, что делать с этой нежданной беременностью. Они оба не хотели пока иметь детей, планировали свою жизнь посвятить стройке коммунизма, но к их разочарованию только-только отдельным декретом запретили аборты в стране, независимо от обстоятельств [140]. Тогда только из-за этих слов мамы и ее решения воспитывать ребенка молодых Коля отговорил жену от нелегального аборта, и Люша появилась на свет.
Чтобы спустя несколько лет погибнуть в поле под налетом нацисткой авиации.
«Я знаю точно, что у меня не будет детей сейчас, пока в мире идет война. Это не то время, чтобы рождались дети», — так когда-то сказал Лене Рихард. И боль только усилилась, стала острее. Словно кто-то стал царапать в кровь едва зажившие раны.
Почему он оставил ее? Почему позволил этому всему случиться? Еще до своей гибели. Получая отчаянные письма от нее. Мог ли Цоллер перехватывать и его письма, не позволяя им попасть в ее руки? Или все же Рихард, как и обещал, вычеркнул ее из своей жизни, словно ее никогда и не было?
Она не хотела об этом думать. Но мысли постоянно возвращались и тревожили своей настойчивостью. Особенно сейчас, в период зимних праздников, когда прошлое снова и снова приходило воспоминаниями при даже самых мельчайших деталях. Запах хвои в доме, белые хлопья снега за стеклом окна, мягкий огонь свечей, знакомая до боли форма на редких встреченных летчиках в городе, которых отпустили на время праздника к родным. Все это пробуждало память о звуках голоса, нежности прикосновений, мягкости взгляда.
Время не стирало ничего. Не лечило, как обещала поговорка. Просто отмеряло ровные промежутки жизни.
Под Новый год Гизбрехтам неожиданно пришла весточка с Востока, из Польши, где располагался лагерь для преступников рейха. Людо сначала даже испугался почему-то этой открытки с десятком штампов служб досмотра корреспонденции и почтовой пересылки. Хотя эту открытку, как и редких ее близнецов прежде, принес седой почтальон, старый знакомый немцев, Гизбрехту отчего-то виделся в этом подвох. Зато Кристль так и просияла, когда спустилась вниз после дневного отдыха и нашла на столе это послание в несколько фраз из неизвестности.
— Я знала! — произнесла она таким торжествующим голосом, что Лена невольно оторвалась от книги, которую читала, сидя возле пылающего камина — одного из редких теплых уголков в доме. Уголь, как и многое другое сейчас, был в дефиците, а дров раздобыть для старика и двух женщин было практически невозможно. Лена, конечно, пробовала собирать хворост в лесу за городком, но она не одна занималась таким промыслом. Приходилось уходить все дальше и дальше в лес, пока однажды по городку не разнесся слух, что охрана лагеря на другом краю леса получила команду стрелять по каждому, кто приблизится на расстояние сотни метров до ограды.
— Я знала, что он жив, мой мальчик! — Кристль все водила и водила пальцами по строчкам на обороте карточки с маркой с лицом фюрера. Словно не в силах поверить своему счастью. А вот Людо наоборот выглядел недовольным. — Я знала, что рано или поздно придет весточка. Пусть поляки больше и не приносят сюда ничего…
— Я же сказал тебе — никогда больше не вспоминать о них! — вдруг вспылил Людо, стукнув кулаком по столу, отчего дрогнули даже стекла в буфете.
— Людо, посмотри же! Это наш Пауль! Он поздравляет нас с Рождеством и просит выслать ему денег, чтобы он мог купить себе в лавке лагеря сахара и сигарет. Вот гляди же!
— Это кто-то из лагерных охранников решил сыграть на твоей доверчивости и только! Наши сыновья мертвы! Оба! И чем скорее ты поймешь это, тем лучше! И не смей отсылать ни марки в лагерь! Мы и так сводим еле-еле концы с концами. Говорят, с января снова урежут нормы по карточкам. И тогда мы точно вряд ли сумеем прокормить еще два лишних рта! Каждая марка на счету. Каждая! И думать не смей даже, Кристль!
И этот праздничный ужин, состоящий из тушеной капусты, отварного картофеля и худосочного цыпленка, прошел совсем не в том настроении, как должно. Людо точно также часто подливал себе крепкого пива, отчего быстро захмелел и когда настало время выходить из-за стола, едва держался на ногах. Он был тяжеловат для того, чтобы Лена и Кристль увели его вверх по лестнице в спальню на втором этаже, потому женщины, посовещавшись, решили оставить Людо спать в кресле у камина. Здесь ему было бы точно теплее, чем в плохо протопленной спальне на холодных простынях.
— Я хочу кое-что тебе подарить, — сказала Кристль в конце вечера, когда до полуночи оставалось всего несколько минут, и они вдвоем уже управились с уборкой со стола и мытье посуды. Лена была даже благодарна этим обычным хлопотам за то, что они отвлекали ее от мыслей о прошлом.
Ровно год назад она осмелилась навсегда переменить свою жизнь, отдав всю себя Рихарду — душой и телом.
Эта фраза пожилой немки на какие-то секунды заставила Лену растеряться. Она знала уже, что немцы обмениваются подарками на Рождество, потому была готова, что Гизбрехты что-то преподнесут ей и заранее купила небольшие сюрпризы для них — Кристль получила от нее фартук с вышивкой, а Людо футляр для трубки, расшитый бисером. В ответ пара немцев вручила ей связанные Кристль митенки, чтобы не мерзли руки во время работы в редакции, пушистый шарф и плитку шоколада, которую купили у подруги Кристль, чей сын приехал на Рождество в отпуск из Бельгии.
Но на Новый год Лена не была готова к обмену подарками. И поэтому растерянно и даже с легким чувством вины наблюдала, как Кристль полезла в карман вязаной кофты и достала странные вещи, которые и протянула девушке — две очень длинные ворсинки от какой-то щетки и тускло сияющая в свете лампы пуговица.
— Это на счастье, Лене, — проговорила немка, улыбаясь неловко. — Если на Сильвестра получить в подарок щетину щетки трубочиста и пуговицу от его мундира, то это непременно принесет счастье.
Лена не верила в Бога. И почти не верила в приметы и другие суеверия, на которые обращали внимания ее мама и тетя Оля, не говоря уж о тетиной домработнице — малообразованной деревенской девушке. Почти — потому что все же балет был совершенно другим миром, в который она погружалась с головой и в котором входила на сцену только с верной ноги, никогда не смотрела в зеркало поверх плеча соседки по гримерке и знала, что случайно оброненную шпильку или что-нибудь другое, поднимать нельзя.
Потому-то Лена с трудом скрыла свой скептицизм за легкой улыбкой. Как ей могут принести счастье две щетинки и чья-то старая пуговица? Но странный подарок взяла из рук немки и положила после на тумбочку у кровати, не зная, как с ним нужно обращаться по немецкой примете. Видимо, пуговица на этом месте попала под луч лунного света, пробравшимся в прохладу комнаты через щель между шторами. Потому что, когда Лена внезапно проснулась ночью словно от толчка, кругляш, начищенный до блеска, светился как волшебная звезда в ночной темноте. И ей вдруг захотелось, чтобы слова немки оказались верными, и чтобы эти странные предметы действительно могли осуществить ее желания и принести ей счастье, которого так отчаянно хотелось сейчас, после очередного сна-возврата в прошлое.