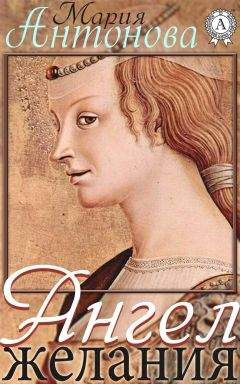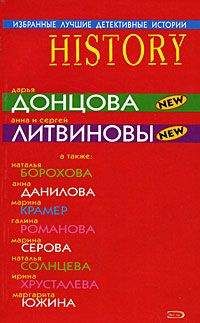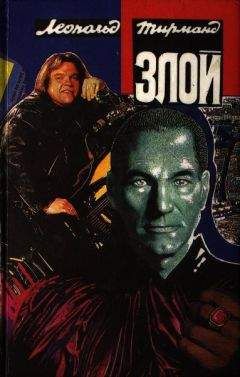Марина Струк - Мой ангел злой, моя любовь…
Она не могла не улыбнуться ему после этих слов, коснулась кокетливо кончиками пальцев рукава его редингота, скользнула ими по ткани. Все-таки не подвело ее внутреннее чутье, когда помогавшее определить, кто и как расположен к ней. Значит, еще помнит сердце то, как когда-то билось для нее. Значит, все еще возможно — вернуть то, что еще недавно казалось потерянным, то что сама так часто отвергала.
Но Анне не понравилось, как Андрей вдруг нахмурился отчего-то при виде этой улыбки, а потом и вовсе отошел от нее на пару шагов. Словно пряча лицо от ее взгляда. Или не желая видеть ее…?
— Я искала вас, Андрей Павлович, — проговорила она медленно, будто подбирая каждое слово. И как же плохо не видеть его лица! Не знать отклика на свои слова. — Искала, чтобы поблагодарить за то, что вы распорядились отпустить Дениску, не передали о его проступке уряднику в уезд для дальнейшего хода. А ведь он вольный…
Денис был пойман три дня назад в лесу одним из сельских десятских [590], когда пробовал ставить силки на мелкого зверя. Десятский был из тех крестьян, что не любили дворовых, считали, что у тех доля легче, чем у тех, кто на земле свою повинность нес. Не пожалел, не отпустил, и привел не к старосте, а сразу на усадебный двор, под суд барина. И был удивлен, когда мальчика отпустили прочь, отмерив в качестве наказания пяток ударов розгами по толстому тулупу. Разве ж то наказание…?
— Я хотела поблагодарить за все, что вы делали и делаете для меня, — продолжила Анна, стараясь, чтобы голос звучал немножко иначе — как ранее, когда хотела обольстить своей красой. «Voix de sirène» [591], называл эти нотки Петр когда-то, забавляясь тому, как оправдывает название тот — и стар, и млад тут же, сами того не замечая, прельщались сестрой.
— Кто бы вам что ни сказал, он обманул вас, — ответил Андрей, пнув сапогом гравий с дорожки, наблюдая после за коротким путем маленького камешка вдоль обочины в намечающейся зелени травы. — Я не делал ровным счетом ничего, за что меня надобно благодарить.
— В таком случае меня обманули мои глаза. И мой разум, — а потом добавила лукаво, играя, зная, что следующей репликой загонит его в угол, ведь и далее обвинять во лжи означало оскорбить эту персону. А Андрей вряд ли бы решился на это, что означало капитуляцию. Неминуемую и бесповоротную. А далее Анна сумела бы вывести его на нужную тему разговора. Заставить первого признаться в чувствах, снова повторить то, что он когда-то говорил в гостиной флигеля. И ей останется только протянуть ему руки и, улыбнувшись, признаться в ответ.
— И моя собственная тетушка, которая писала ко мне, как дурно с моей стороны столь злоупотреблять вашим гостеприимством. И вашей добротой и благородством натуры. Тогда мне следует поблагодарить вас…
Андрей обернулся к ней, щурясь от лучей солнца, бивших ныне ему прямо в лицо, как-то странно взглянул в ее сторону. И Анна невольно встревожилась, заметив выражение его лица. То самое, которое было когда-то в церкви на Рождество. Словно он видит перед собой что-то не по душе и скрывает это за знакомой Анне отстраненностью.
— Bien! Раз уж так… То, что я делаю по отношению к вам, Анна Михайловна, вовсе не из чаяния получить взамен вашу благодарность или ваше расположение ко мне. Я уже писал вам, помнится, что вы можете располагать мною. Я не могу принять, чтобы нужда толкала вас к каким-либо решениям по поводу вашей будущности, тем, что вам не по нутру. И буду подле вас всегда. Потому что чувство вины не дает мне покоя ни на минуту в этих стенах, на этих землях. Я обманул вашего отца. И я не имею права ныне оставить вас без защиты и покровительства, под которую, как тот думал, отдает вас мне. У меня долг пред ним, пред его памятью за то. Надеюсь, вас не тяготит мое опекунство, потому что я не смею ныне поступать иначе.
Долг. Опекунство. Разве эти слова Анна желала слышать в эту минуту? И в миг вспыхнула в ней как прежде злость на то, что происходящее вовсе не шло тем ходом, каким она предполагала его, ступая в аллеи парка. Все должно быть по-иному, совсем не так!
— Я не желаю, что вы были моим названным опекуном! И не желаю таковой заботы и попечительства…! Я желаю… желаю…, - и сбилась, испугавшись, что вот-вот выдаст себя с головой, вырвутся слова, которые она предполагала сказать только после его признания, после его капитуляции.
Они смотрели друг другу в глаза так пристально и внимательно, будто пытались каждый найти что-то в лице стоявшего напротив. Нечто, что тут же развеяло весь флер ошибок прошлого, разочарования, недосказанности. Что устранило бы все препоны, стоявшие меж ними, разрушило бы все стены, так тщательно возводимые.
Но взгляду порой не под силу сделать то, на что способны всего лишь несколько слов, всего лишь несколько коротких фраз, увы, Анна поймет это слишком поздно. Но она молчала. Для нее было совершенно невозможным первой сказать то, что должно, признаться и покаяться в своих ошибках и лжи. Первым начинать разговор, первым предлагать перемирие после долгой размолвки — огромнейший риск…
Она с трудом сдержит удивленный возглас, когда Андрей первым решит уйти. Короткий поклон, тихо проговорив: «Excusez-moi, je vous prie» [592], а после развернется от нее и зашагает прочь по аллее. Только полы редингота развеваются от резких шагов, соединены руки за спиной в резком и злом пожатии.
И только тогда, глядя в его спину, Анна вдруг забыла обо всем, что удерживало ее прежде от тех слов, которые она выкрикнула ему вслед. Они вырвались под влиянием страха потерять окончательно, оттолкнуть себя в желании вернуть, не поправ ни на миг свою гордость. Единственное, что, как она полагала, способно вернуть Андрея к ней:
— Сашенька — не мой сын!
Глава 41
В комнате было невыносимо душно, несмотря на то, что Иван Фомич еще с утра выбил гвозди из рамы и приоткрыл оконные створки. Легкий ветер ласково пробегал по еще голым, лишь с маленькими зелеными точками наметившейся листвы ветвям, но заглядывать в темноту флигеля явно не спешил.
Так было всегда — чуть стоило солнцу дарить ласково земле свои лучи с утра до самого заката, деревянный флигель быстро наполнялся теплом, которое к полудню превращалось в жару, заставляя обитателей дома мучиться от духоты. Только с сумерками во флигель заходила прохлада, а ночной весенний холод прогонял прочь духоту, остужал стены. Летом же, когда ночи бывали так теплы, приходилось даже развешивать мокрые простыни, пытаясь хоть как-то развеять одуряющую духоту.
То ли дело каменный усадебный дом, подумала с легкой грустью мадам Элиза. В том было и зимой тепло, когда топили отменно, и летом не жарко и душно. Да к чему вспоминать о том сейчас? Только сердце свое тревожить, ведь воспоминания о былом несли с собой очередное напоминание о том, кого она потеряла — ее Pauline, ее petite oiseau [593]. И даже любовь к собственному внуку не сумела занять то опустевшее место в душе, которое до конца жизни будет принадлежать дочери. Отчего только та не послушала матери, отчего пошла навстречу своей судьбе и своей гибели? Мадам Элиза полагала, что любовь к хозяйскому сыну только обожжет крылья ее petite oiseau, а не спалит ту в своем огне, оставив только воспоминания взамен.