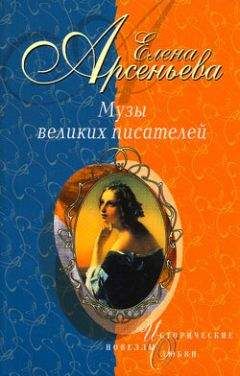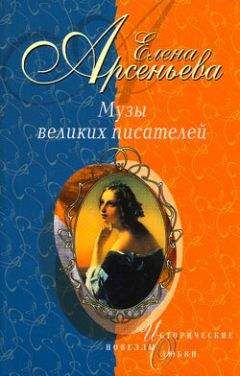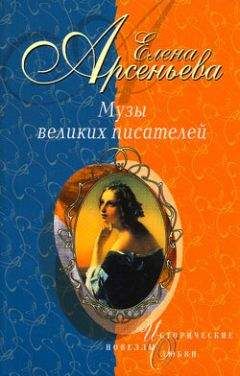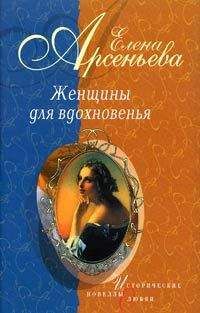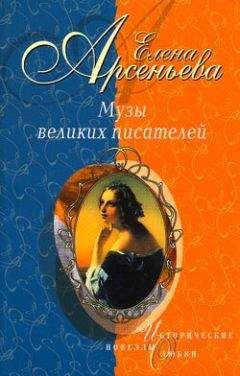Елена Арсеньева - Женщины для вдохновенья (новеллы)
Она изображена в виде античной богини, а может быть — жрицы любви: с роскошными формами, в небрежной и в то же время царственной позе. Лицо ее прекрасно, обольстительно, надменно… Невольно вспоминается прозвище, которое Закревской дал поэт Петр Вяземский, тоже покоренный ее красотой и чувственностью. А назвал он Аграфену Федоровну «медной Венерой».
Ох, как много скрыто в этих двух словах… Восхищение влюбленного — и в то же время обида отвергнутого любовника, очарование поистине божественной красотой любовницы и ароматом ее темно-рыжих, искристых волос — и в то же время мелкая мстительность мужчины, который считает всякую женщину, предпочитающую ему другого, непременно продажной, готовой отдаться за медную полушку…
Есть здесь и еще кое-что. В то время среди литераторов и России, и Франции был очень популярен античный автор Лукиан с его произведением «Любитель врак». Среди этих самых «врак» можно отыскать страшноватую историю о статуе, губящей людей. Проспер Мериме, который был в России весьма известен и любим (Пушкин даже переводил его), написал по мотивам Лукиана поразительный рассказ «Венера Илльская». Это история о том, как в некоем итальянском селении случайно выкопали старинную древнеримскую бронзовую статую Венеры с надписью на пьедестале: Venera Turbulenta, то есть Венера буйствующая. Была там и вот такая надпись: Cave amantem, что означает: «Берегись любящей». Однако некий молодой человек накануне своей свадьбы, играя в мяч, надел на палец статуи кольцо, предназначенное его невесте, а снять не смог. Ему показалось, что статуя согнула палец! И вот в брачную ночь в спальне молодоженов появилась бронзовая Венера и удушила в своих объятиях неосторожного юношу, который вздумал подшутить над ней — богиней! — и надел ей на палец кольцо с многообещающей надписью: Sempre ab ti, то есть «навеки с тобой»…
Что страсть к Закревской может быть поистине смертельна, Боратынский понял очень скоро. Чувствия, так сказать, чувствиями, однако воздыхания влюбленного поэта не могли утолить ненасытной плоти Аграфены Федоровны. Она вновь стала нервной, раздражительной, глаза ее сверкали не любовью, а яростью, она обращалась с прежним идолом своего сердца все небрежней, и вот однажды Евгений, «любви слепой, любви безумной тоску в душе своей тая», увидел рядом с ней нового фаворита. И еще одного. И другого, и третьего…
И все его жалкие мольбы о возвращении в прежний рай были напрасны.
Страдаю я! Из-за дубравы дальной
Взойдет заря.
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.
Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.
Да уж, помучиться Боратынскому пришлось… И, как и полагается отвергнутому мужчине, он принялся мстить владычице своего сердца. И, как и полагается отвергнутому поэту, мстил он ей, разумеется, в стихах, справедливо рассудив, что эта месть переживет и его, и прекрасную даму, и свидетелей их страсти, что эта месть останется в веках и будет позднее восприниматься как некая пиитическая истина в последней инстанции. Что написано пером — не вырубить топором, а насколько сие изречение правдиво… Ну, спустя пару-тройку веков кому какое будет дело до истинного «морального облика» Магдалины-Альсины-Феи? К тому же Закревская ведь и сама исповедует принцип — чем хуже, тем лучше…
Порою ласковую Фею
Я вижу в обаянье сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? — странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Или вот это — еще злее, еще трагичнее, еще горше:
Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!
Этот загадочный, обольстительный русалочий хохот надолго отравит потом русскую поэзию и откликнется даже в прозе — вспомним Веру из гончаровского «Обрыва» с ее русалочьим смехом… А впрочем, бог с ней, с Верой! Но это факт, что именно Боратынский, обуреваемый мстительной страстью и ревностью, ввел в русскую литературу образ этакой la femme fatale, как сказали бы французы — роковой женщины, сокрушительницы судеб, разбивательницы сердец, бессердечной, грешной красавицы. Воистину, Аграфена Федоровна просилась не только на полотно, но и в стихи!
Ну что ж, просилась — вот и допросилась…
Для начала Боратынский предсказал ей — злобно предсказал, с ненавистью! — участь «бесчарной Цирцеи». Предсказание, к слову сказать, не сбылось, потому что Аграфена Федоровна Закревская до последних дней своих затмевала других женщин красотой и обворожительностью. Стареть-то все стареют, вопрос лишь в том, как это происходит…
Боратынский в литературном кругу был уже прославлен как певец Финляндии суровой. Поэма «Эда» принесла ему славу сугубо романтического, возвышенного пиита. Трогательная история «финляндки Эды», соблазненной веселым русским гусаром, восхитила столичных стихотворцев, в том числе и Пушкина. Остается лишь руками развести, дивясь мужскому лицемерию этих записных гуляк (кто из них и когда хоть строку написал на трезвую голову?) и распутников (как насчет прилежного изучения «науки страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он»?), которые с видом праведников читали обличения Боратынского (бывшего воришки, бывшего любовника замужней дамы, к слову сказать!), писавшего о грехопадении Эды так:
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;
Открылась бездна нищеты,
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Восхитила и собратьев по перу, и читателей смиренная кончина бедняжки Эды, брошенной (конечно же!) вероломным любовником. Этот нежно-пошловатый набор был вполне в духе русского литературного сентиментализма, плавно перетекшего в романтизм. Однако новая поэма Боратынского — «Бал» заставила снисходительных поклонников его таланта насторожиться. Слишком много было в ней оскорбленной гордости, слишком много живой жизни, слишком много сходства с реальностью, чтобы поэма сия могла считаться вполне романтической. А ее героиня, княгиня Нина… Да ведь это же Закревская! Это ее портрет! Ее натура! Ее манеры, ее грехи, ее любовники, ее причуды… Чтобы ни у кого не оставалось на сей счет сомнений, Боратынский скромно — так и видишь его добродетельно поджатые губы! — сообщил в письме к Путяте: «В поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. Она моя героиня».