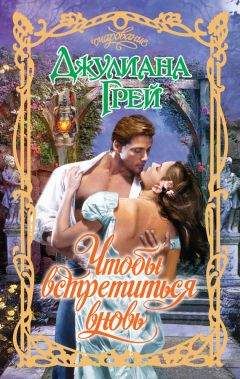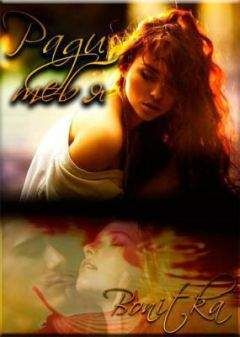Евматий Макремволит - Повесть об Исминии и Исмине
Панфия обращает глаза на дочь, глаза, полные гнева, полные негодования, налившиеся кровью. Она обводит взглядом ее голову, ее руки, ее ноги, ее шею — всю Исмину охватывает она глазами, на всю гневается, на всю негодует. Панфия краснеет (удивительная, мне кажется, вещь румянец, порождаемый гневом), потом снова бледнеет, точно вся ее кровь отлила к щекам Исмины.
А Сосфен, пристально взглянув на дочь, качает головой, тотчас отводит глаза и говорит: «Время Диасий! Почтим пиром Диасии! Безраздельно предадимся ликованию, безраздельно предадимся торжеству! Зевс присутствует на нашем пиру, и пир этот — Зевсов, ибо вот этот (Сосфен указал рукой на меня) вестник Зевса».
Кратисфен, который возлежал со мною рядом, безмолвно ударяет меня рукой, ногой наступает мне на ногу и шепчет «Молчи». Я не понимал, что со мной происходит: краснел, бледнел, не мог сказать слова, страшился, дрожал, стыдился самого себя, Сосфена, Панфии, Исмины, всех присутствующих и даже моего Кратисфена. Глаза я вперил в стол, чтобы избежать взглядов Исмины.
Снова девушка, повинуясь приказу, смешивает вино и после Сосфена, своего отца, и после Панфии, своей матери, подходит ко мне, вестнику. Сосфен говорит: «О, вестник Исминии, вот праздничный кубок, выпей его в честь Зевса, и да будет тебе благо; благо за пиром, благо за вином, благо в вестническом труде твоем». Я же: «Благо и тебе, Сосфен, — ответил, оказавшему нам столь богатый и столь пышный прием!». А девушка, стоя со мной рядом, рукою мне в руки подает кубок, свои взоры с моими сплетает. Я протягиваю руку взять кубок, а она сжимает мне палец и, сжимая, вздыхает, и легкий вздох ее поднимается словно из самого сердца. Послушавшись Кратисфена, я молчал. Так закончился пир.
В отведенный нам покой нас провожали Сосфен, Панфия, дева Исмина и три рабыни. Одна несла чистую воду, другая держала на плече серебряный чан, у третьей в руках была белоснежная пелена. Мы входим в наш покой. Сказав мне «Прощай», Сосфен вместе с Панфией уходит. Мы же с Кратисфеном легли на ложа, богато постланные и таровато. Рабыня, которая несла чан, поставила его на пол у моего ложа, другая налила воду, а дева Исмина опустилась на колени и стала омывать мне ноги: ведь и это тоже было священной обязанностью по отношению к вестникам. Она касается моих ног, крепко их держит, обнимает, стискивает, украдкой целует и поцелуи скрывает, а под конец щекочет ногтями. Я, до тех пор сносивший все молча, невольно рассмеялся. Исмина подняла голову и, пристально взглянув на меня, едва приметно улыбнулась и снова опустила глаза, хотя я не обращал внимания на знаки ее любви. Она вытирает мне ноги, взяв из рук служанки пелену, и со словами «Прощай, вестник!» уходит. Я тотчас же погрузился в сон, утомленный яствами, вином и своими вестническими обязанностями. Около третьей стражи ночи[14] прекрасный Кратисфен будит меня словами: «Не подобает всю ночь так покоиться вестнику».[15] Я старался, движимый стыдом и дружбой, расстаться со сном, но он не расставался с моими глазами: ведь обильные яства, вино и усталость источник сна. «Что тебе не спится, Кратисфен, — спросил я, — зачем от моих ресниц гонишь сладкую дрему?». Он же стал расспрашивать о том, что было за пиром и почему я рассмеялся, и принялся бранить мой язык, говоря: «Немногословный язык, конечно, сокровище в людях, Но приятней всего и здесь соблюдение меры.[16]» Я ему в ответ: «Что было за трапезой, Кратисфен, ты сам знаешь, ибо возлежал рядом со мной и тоже пил нектар, а с Исминой было у меня вот что: в первый раз, подавая мне вино, она „Привет тебе“, прошептала, во второй — „Из рук соименной девы прими кубок“ чуть слышно, таясь от чужих ушей, говорит, и, пока я пил, она ногой нажимала на мою ногу. В третий раз девушка подносит мне кубок и, подавая, снова удерживает. Что я на это сказал, ты слышал, видел и все, что было потом: негодование Панфии, гнев отца, как он покачал головой, заметил и замешательство девы, и ее молчание, и испуг, и как она залилась краской, заметил и все остальное, что Исмина, словно громом пораженная, претерпела. Мало того, клянусь моим священным жезлом, я сам испытывал стыд и преимущественно из-за твоего наставления молчать. В четвертый раз мы пили вино в честь Зевса-Спасителя[17], и опять Исмина сжимала мне палец. Вот что было за пиром. А что было здесь в нашем покое? Она омывает мне ноги, приникает к ним, стискивает пальцы, целует и, целуя, поцелуи скрывает, а под конец щекочет мне подошвы. Тогда, как ты слышал, я рассмеялся».
Кратисфен воскликнул: «Счастливец! Тебя любит дева, и дева столь прекрасная! Что же ты не разделяешь ее любви?».
«А что такое любовь?» — спросил я.
Кратисфен во второй раз громко воскликнул: «О Геракл! Какая нелепость! Какая простота! Да будут к тебе благосклонны Эрот, владычица Афродита и все любовные привороты!».
Я спрашиваю Кратисфена: «Что это такое? Кто наставит меня в этом?» А он в ответ: «Природа живых существ не нуждается в наставничестве».[18] И вот мы снова предались сну.
Книга вторая
На следующий день мы опять в саду, насыщаем взоры его прелестями, вбираем усладу в наши души. Ведь сад этот — блаженное место, край богов, весь он прелесть и услада, отрада для глаз, для сердца — утешение, успокоение для души, стопам отдохновение, покой всему телу. Таков сад.
А его ограда — она-то какова! — тоже чудо — вся расписанная умелой рукой живописца, ровно настолько она поднималась ввысь, чтобы охранять сад от взоров и вторжений. Четыре девы изображены на ограде. Голова первой блистательно венцом украшена. Камни на венце сверкают, пламенем искрятся, сияние источают, влаги полны. Взглянув, ты сказал бы, что камень соединил в себе несоединимое — воду и пламя; то и другое сладостно, то и другое прекрасно. Пламя полыхает багрянцем, вода сверкает молниями — столь правдиво передал мастер природу драгоценных камней. Жемчужины их окружают; они белы, как снег, совершенно круглые, необычайной величины.
Пораженный, не спуская с них глаз, я в восхищении воскликнул: «Град и угли огненные»[19]. А Кратисфен (ведь и он стоял со мной рядом) засмеялся в ответ на мое неудачное сравнение. Волосы волной рассыпаются по плечам девы, как подобает, вьются локонами, и золотом отливают локоны. Ожерелье вокруг шеи серебряное с золотыми точками. Сапфир — застежка ожерелья. Руки у девы белые и поистине девические. Правая, приподнятая и слегка изогнутая, касается головы и сверкающего на лбу карбункула, левая держит чудной красоты шар. Правая нога у девы без сандалия, левая скрыта хитоном. Хитон совсем простой, скорее деревенский: все украшения мастер расточил на голову девы, остальное же нарисовал, как пришлось.