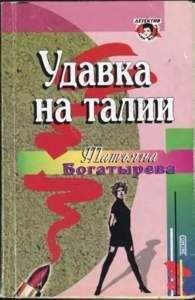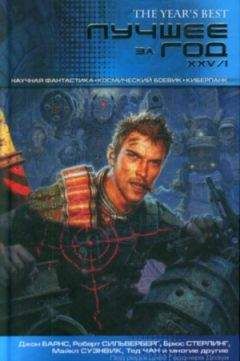Яна Долевская - Горицвет
Хуже того, саднящее ощущение шло теперь изнутри, из самой потаенной, и казалось, надежней всего защищенной, укромной части всякой чувствующей души. Что такое случилось там, в глубине, под спудом его старого, но все еще крепкого, упрямо живущего тела, Поликарп Матвеич мог только гадать — что-то надорвалось почти как много лет назад, когда он порвал с Грегом. Что-то внезапно сломалось и заслонило собой все остальное, лучшее, что было в его жизни.
Слабый, меркнущий свет бился в окна лесного особняка, подкрашивая ситцевые занавески мутными предзакатными лучами. Бревенчатая стена напротив казалась совсем темной. Затаившиеся в углах тени наполнялись лиловой тьмой, и маленький огонек лампады перед черной иконой Спасителя в красном углу мерцал как будто крохотная звезда, повисшая над бездной.
Поликарп Матвеич угрюмо облокотившись о стол с остатками ужина, придерживал одной рукой дымящуюся трубку, а другой ласково прижимал к себе вольготно развалившегося поперек лавки Кота. Кот, нехотя, отклонял морду, так чтобы под руку хозяина попадала наиболее нежная, нуждающаяся сейчас в почесывании внутренняя сторона мягкой шеи. Неуклюжие пальцы Поликарпа Матвеича покорно следовали за поворотами кошачьего тельца, поглаживая и нежа его, отчего Кот, не переставая, урчал и время от времени от избытка удовольствия впивался когтями в хозяйскую ногу.
— Отощал ты, брат, — со вздохом, не обращая внимания на уколы острых когтей, говорил Поликарп Матвеич, — а все от ленности. Нет бы мышь поймал или там пичугу какую. Ты ведь был по части мышей зверь мастеровитый, так нет. Избаловался. Лишний раз и лапой не пошевелишь. Авось, старый дурак сжалится, да накормит сальцем ли, сметанкой ли. Что, разве нет? То-то же. Скверно, это, братец ты мой, ох как скверно… — Поликарп Матвеич запнулся. Пыхнул дымом и, глядя сквозь расстилающуюся по комнате сизую пелену, уставился в темный, наполненный тенями угол.
Третий день как он вернулся из Мшинского уезда, куда его откомандировали на помощь тамошним егерям и пожарным. Насмотрелся, конечно, всякого, но главное — убедиться на деле, что никакими людскими силами остановить бушующий океан огня невозможно. Огонь либо продолжал буйствовать, уничтожая все на своем пути, либо прекращался в каком-то непроизвольном самоистощении. И тогда люди, пользуясь этим случайным, не зависящим от них, ходом вещей, старались сделать хотя бы то немногое, что полагалось делать при тушении любого пожара.
Теперь из Мшинского уезда огонь перекинулся на самую сердцевину огромного древнего бора. И здесь, в местах, ставших слишком дорогими для его сердца, Поликарп Матвеич с особенной тревогой видел все ту же дымную завесу с чередой кровавых выплесков пламени, чувствовал все ту же разъедающую гарь, слышал в городе, деревнях и на станции все те же неизбежные разговоры о недостаточности мер, предпринятых властями, и еще яснее понимал, что сделанное им открытие о природе огненной стихии — не безутешный вывод слабого человека, а обыкновенное признание действительности.
Но как бы ни были тяжелы его мысли и предчувствия относительно будущего Каюшинского леса, как бы ни тревожили его сейчас картины неизбежного в скором времени опустошения уезда и неизвестность его собственной судьбы, все это делалось второстепенным и не слишком значительным перед лицом беды, поразившей Жекки. С Жекки случилось что-то страшное, Жекки не походила на самою себя, — вот что висело теперь тяжким грузом на сердце, что мешало думать о чем-то помимо нее, что не давало вырвать себя из петли отчаянья и какого-то подспудного, тупого безволия. Если Жекки не станет, тогда зачем все…
Поликарп Матвеич перестал гладить Кота, поднялся с лавки, и захватив со стола пустые миски, пошел, волоча больную ногу к дубовой бадье с водой, что стояла у входа. Мутный сумрак прятался по углам. Старые ходики за стеной во второй комнате, где была спальня, громко на весь дом, отстукивали минуты. «Тогда, зачем…» Второй раз его сердце просто не выдержит, оно разорвется от пустоты и умрет. Поликарп Матвеевич чувствовал это, с трудом одолевая в себе эту повторную тяжесть.
Вода в бадье была черной, прохладной. Зачерпнув ее миской, он прислушался и замер. За дверью раздался какой-то легкий шорох. Чьи-то шаги или ветер? Или один из тех неопределенных звуков, что время от времени пробуждаются среди вечернего лесного безмолвия? Поликарп Матвеич слишком хорошо ощутил, что долетевший до него шорох произвело движение живого существа. Ему почему-то стало трудно вздохнуть. Пересилив себя, он распахнул дверь и вышел на крыльцо.
XXVI
Закатные отсветы, проступая между мохнатых еловых лап, нависавших почти над самой крышей, ложились ровными розовыми пластами на бревенчатые стены избы. Вспыхивали в мелких оконных стеклах и матово светились сквозь лиловое марево, расстилавшееся плотной стеной по ту сторону дворовой изгороди. Дальше ничего не было видно. Сплошная черная, пронизанная раскаленными зарницами тьма. Оттуда, из черноты невидимого, вдруг пахнуло холодом, и Поликарп Матвеич увидел, как перед ним в двух шагах от нижней ступеньки резко поднялась и слегка пошатнулась высокая человеческая фигура. Когда человек перевел на него прямой немигающий взгляд, старый лесник непроизвольно вцепился рукой в гладкую балясину перил и отшатнулся. Из всех живших на земле так мог смотреть только один человек. Поликарп Матвеич снова узнал его.
Они долго и пристально смотрели друг на друга. Оба молчали и угадывали в сковавшем их безмолвии почти все и сразу: и многолетнюю тяжесть давней обиды, и угрюмое разочарование, и невыразимую нежность друг к другу, и внятную только им двоим даль драгоценных воспоминаний, и преодалевшую самое себя гордость, и переступившую через нее мучительная боль, и общую им, долгую неизбывную горечь. Горечь шла за каждым из них попятам, отзываясь в каждом своими особенными, неповторимо мертвящими полутонами.
Матвеич не выдержал первым, так больно кольнуло его сердце какое-то новое, не виданное прежде выражение в знакомых, совсем чужих, глазах Голубка. Он молча толкнул входную дверь, жестом приглашая его войти. Тот прихрамывая, медленно переступил порог.
После охлажденного вечернего воздуха травяной пряный запах дома показался особенно густым и тяжелым. Пучки сушеных трав свешивались под потолком, темнели разложенными пластами над полатями. Голубок глубоко вдохнул в себя этот насыщенный добрым дурманом сумрак и, словно бы узнав что-то странно знакомое, тяжело повалился на лавку. Потревоженный Кот спрыгнул на пол и нехотя перебрался на полок печки. Нежданный гость был ему явно не по нутру.